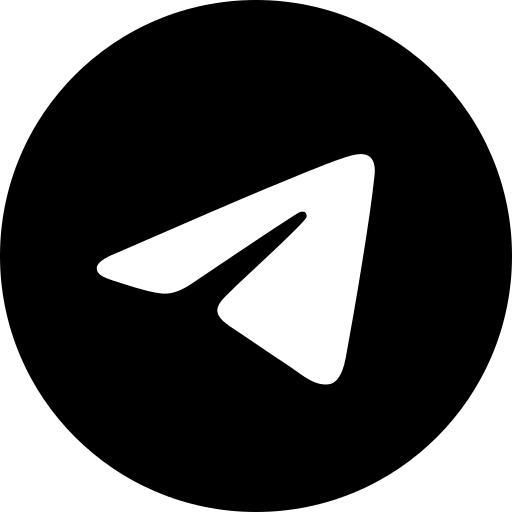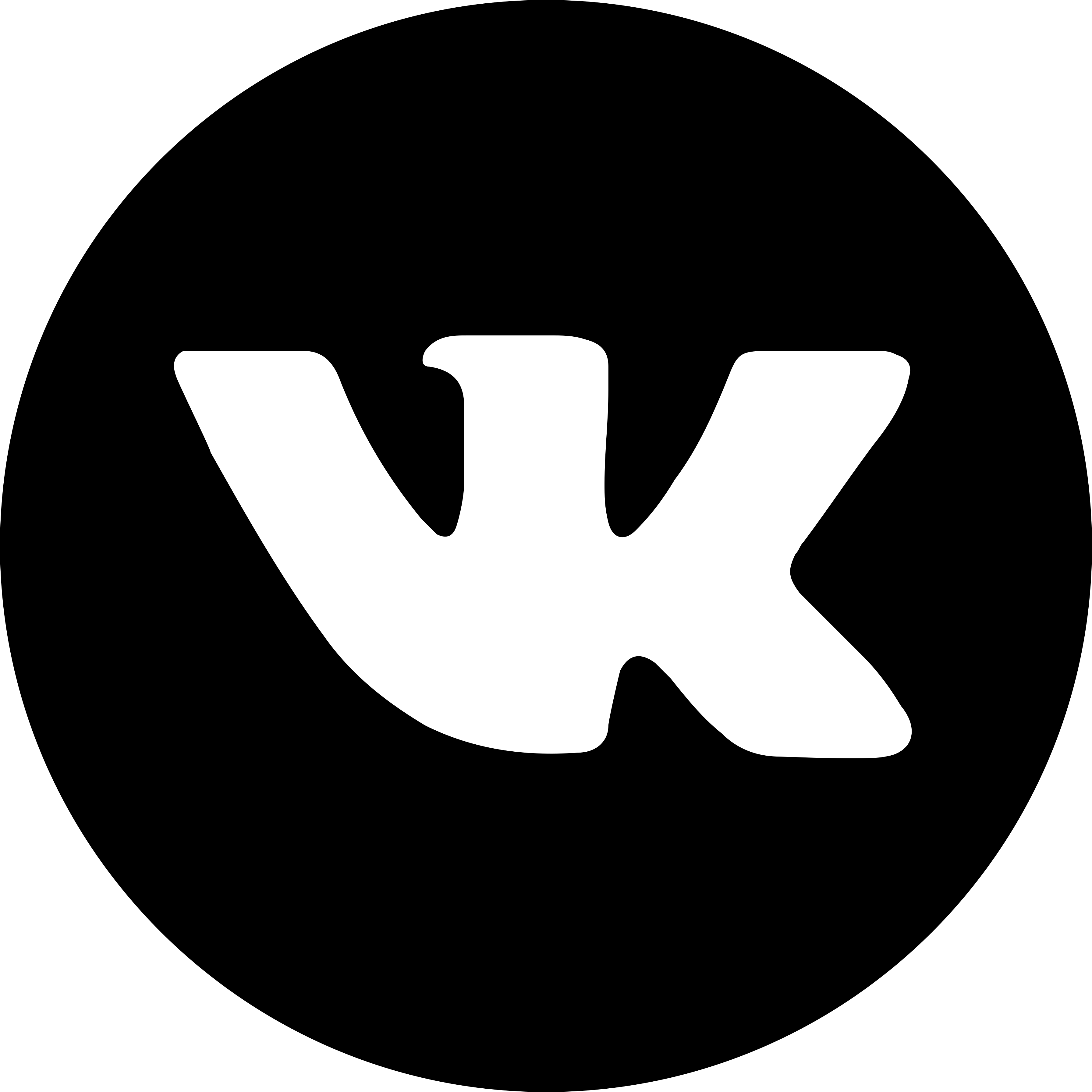- Психиатр, психолог, психоаналитический психотерапевт
- Член ЕАРПП (РО-Москва)

- Психиатр, психолог, психоаналитический психотерапевт
- Член ЕАРПП (РО-Москва)
ЯЗЫК – ЭТО... НЕ ПРОСТО УПАКОВКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ, НО... СРЕДА, В КОТОРОЙ СОЗДАЮТСЯ ЧУВСТВА И МЫСЛИ.
Томас Огден, 1991
Сегодня все чаще можно наблюдать, что пациенты, живущие в эмиграции и владеющие двумя и более языками, решаются проходить анализ на неродном языке, а психоаналитики – практиковать. Причем, аналитики имеют разный уровень осведомленности относительно языковых практик билингвов и их потенциального значения для анализа. Литература, в основном описывающая опыт пациентов-билингвов, и в меньшей степени аналитиков-билингвов, предполагает, что язык, используемый в аналитическом кабинете, играет важную роль как в терапевтическом процессе, так и в отношениях между аналитиком и пациентом. На сегодняшний день не существует профессионального консенсуса насчет того, является ли анализ на родном языке или билингвальный анализ (попеременно на двух языках) предпочтительнее анализа на втором языке, выученном позже. В данной статье описывается феномен человека-билингва, способного попеременно говорить на двух языках, психика которого представляет своего рода упакованную головоломку, уникальную тем, что в ее пределах находятся две эмпирические системы, каждая из которых ограничена своим языком. Кроме того, в статье исследуется описанная в литературе практика аналитиков-билингвов и особенности проведения психоанализа на втором языке пациента, а также попеременно на двух языках. Отдельно рассматриваются вопросы переноса и контрпереноса, присущих билингвальному анализу, а также значение игры слов в аналитическом поле. В заключении приводятся рекомендации в отношении работы с двуязычными пациентами, которые могут принести пользу практике аналитиков, психотерапевтов и психологов, работающих на разных языках.
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня язык, как средство коммуникации, представляет собой нечто обыденное, само собой разумеющееся. Но с тех пор, как появились разные языки, великие умы будоражит тайна их происхождения. Одним из самых распространённых мифов об их возникновении считается миф о Вавилонской башне, аналоги которого существуют почти в каждой культуре. В этом мифе описывается золотое доисторическое время после Всемирного потопа, когда человечество было представлено единым народом, который говорил на унитарном идеальном языке, и все люди понимали друг друга. Затем Бог разрушил их гармонию – наказал за непослушание и высокомерие, смешав языки. И больше не имея возможности общаться, как прежде, люди (народы) заговорили на разных языках. Возможно, этот миф является символом инфантильного превербального рая, и каждый из появившихся языков тогда можно рассматривать как идиосинкратический, создающий особое, уникальное видение реальности, которое невозможно в точности воспроизвести на другом языке (Amati-Mehler et al., 1993).
Можно сказать, что билингвизм – это способность попеременно применять два языка.
С течением времени бесконечные войны между народами и племенами вынуждали пленников учить язык завоевателей. Также мирное сосуществование с соседями, взаимопомощь, необходимость выживания в суровых климатических условиях требовали общения на разных языках. Так, в первобытном обществе возникло двуязычие или билингвизм, который носил, скорее, случайный и временный характер. Сейчас, как и тогда, билингвизму сложно дать «жесткое» научное определение, тем более с психоаналитической точки зрения. Можно сказать, что билингвизм – это способность попеременно применять два языка (Costa & Dewaele, 2012). Трилингвизм, квадролингвизм, пенталингвизм относятся к полилингвизму или мультилингвизму, и часто изучаются в рамках, установленных для билингвизма, хотя динамика полилингвизма гораздо более сложная.
Психоаналитик Роуз-Мари Перес Фостер (Pérez Foster, 1996) утверждала, что «билингвизм в психоанализе так же стар, как и сама область». Действительно, вопрос о значении выбора языка пациентами-билингвами и о том, какие бессознательные мотивы лежат в основе этого выбора, интересовал аналитиков еще со времен ранних исследований Фрейда, начиная с описанного им случая Анны О. Сам основатель психоанализа был весьма искушенным в иностранных языках[1], тем не менее, испытывал сложности, когда ему приходилось практиковать на английском (Gulina & Dobrolioubova, 2018). Также он почти не писал об использовании разных языков в ситуации анализа и не заботился о точности перевода своих трудов.
После того, как в конце 1930-х годов многие психоаналитики бежали из оккупированной Центральной Европы в те страны, где мало кто говорил на немецком (аналитическом языке того времени), проведение анализа на других языках стало обычной ситуацией в эмигрантских психоаналитических сообществах. Это были, так называемые аналитики второй волны, которые имели огромную мотивацию преодолевать языковые барьеры в интересах максимально быстрой адаптации в других странах (Balas, 1996). Так, начиная с 40-х годов прошлого столетия, английский стал новым аналитическим языком, хотя представители французской и латиноамериканских школ психоанализа могут с этим поспорить.
Полиглотизм и лингвистическая «сноровка» стали профессиональной и академической валютой, которые позволили десяткам тысяч людей покинуть родину.
С тех пор прошло почти столетие и, оглядываясь назад, можно увидеть, насколько сильно рост глобальной миграции, процессы аккультурации[2], необходимость общения на нескольких языках изменили языковую реальность современного общества. Полиглотизм и лингвистическая «сноровка» стали профессиональной и академической валютой, которые позволили десяткам тысяч людей покинуть родину, чтобы реализовать свои устремления в поисках подходящего обучения, работы, партнера, безопасности, убежища и так далее. Международная миграция сегодня достигла беспрецедентных масштабов и географического размаха, и число тех, кто снимается с родных мест, только продолжает расти. Неизбежным следствием этого явилось то, что многие пациенты и аналитики не говорят на официальном языке той страны, в которой они оказались, а также то, что пациенты вынуждены обращаться за психотерапевтической помощью, а аналитики практиковать, на втором, выученном позже, языке. Поэтому ситуации, в которых и аналитик и его пациент, владеют более чем одним языком, стали встречаться все чаще и чаще, приобретая характер «новой нормы».
«Мы говорим, но не все, и невысказанное является такой же неотъемлемой частью нашего высказывания, как и то, что мы произносим вслух» (Bollas, 1993, p. 48). Те, кто владеют двумя языками, на собственном опыте знают, что могут пересказать событие на том языке, который отличается от языка фактического опыта, а также могут переключать языковые коды в середине предложения, выражая одну мысль. Но всё ли так легко и просто? Немногочисленные психоаналитические исследования доказывают, что билингвы часто ощущают свою двойственность. Они по-разному вспоминают об одном и том же событии на разных языках (Schrauf, 2000); по-разному ассоциируют, в зависимости от языка, который используют для этого (Burck, 2004). Каждый язык билингва по-разному кодирует один и тот же опыт и эмоциональные переживания, а также создает отличающиеся концепции и представления билингва о собственной личности, ценностях и мировоззрении. Стюарт Холл (Hall, 1996) называл язык «швом» между личностью и культурой. У мультилингвов таких «швов» как минимум два, и располагаются они не в двух измерениях, на плоскости, а в нескольких в n-мерном пространстве, что, безусловно, влияет на ход и характер анализа.
Те, кто владеет двумя языками, на собственном опыте знают, что могут пересказать событие на том языке, который отличается от языка фактического опыта, а также могут переключать языковые коды в середине предложения, выражая одну мысль.
Несмотря на то, что аналитики-билингвы осознают терапевтические последствия двуязычия как для пациентов, так и для самих себя, они имеют разный уровень осведомленности относительно того, какую именно роль язык играет в терапевтическом процессе и в отношениях с пациентом. На сегодняшний день не существует профессионального консенсуса относительно того, является ли анализ на родном языке или билингвальный анализ (попеременно на двух языках) предпочтительнее анализа на втором языке, выученном позже. Многие аналитики разделяют опасения Перес Фостер (Pérez Foster, 1996) о том, что работа с пациентами на неродном языке может превратится в «псевдотерапию», которая попросту встает на сторону сопротивления пациента родному языку и ранним болезненным переживаниям; или в «квазитерапию», в которой основной материал пациента теряется в сложной когнитивной динамике билингвизма. Также некоторые аналитики полагают, что проработка ранних конфликтов должна в конечном итоге осуществляться на том языке, на котором были закодированы ранние объектные отношения.
Другие аналитики придерживаются мнения о том, что язык может сужать или наоборот расширять доступ к одному эмоциональному опыту, одновременно высвобождая или блокируя другой, который был закодирован на другом языке. Третьи считают, что билингвизм и бикультурализм пациента, а также их собственный, неизбежно влияют на перенос, а переключение между языками дает доступ к более глубоким внутрипсихическим конфликтам пациента. А также они считают, что изучение прошлых проблем в новом свете может значительно облегчаться с помощью нового языка (Costa & Dewaele, 2012).
Отдельные аналитики вовсе не рассматривают билингвизм как потенциальную проблему и не обращают внимание на выбор языка пациентами. Тогда пациенту самому приходится размышлять над значением своего выбора. Например, пациентка, родным языком которой был греческий, а вторым – английский, говорила:
«Когда я говорю на эмоциональные темы, то часто перехожу на английский язык. Некоторое время назад я посещала психолога в Греции и постоянно переключалась с греческого на английский. Мы никогда не говорили об этом... На мой взгляд, это могло быть некой стратегией дистанцирования» (Costa & Dewaele, 2012, p. 19).
В данной работе делается попытка описать некоторые особенности психического функционирования человека-билингва, а также особенности и подводные камни проведения анализа на втором языке пациента или попеременно на двух языках. В конце статьи приводятся рекомендации в отношении работы с двуязычными пациентами, которые могут принести пользу практике аналитиков, психотерапевтов и психологов, работающих на разных языках.
КТО ТАКОЙ БИЛИНГВ?
Примерно половина населения нашей планеты говорит как минимум на двух языках: в Китае, в Индии, в странах Африки, Латинской Америки, Океании, Европы и так далее, два языка официально закреплены как государственные или существуют в виде диалектов. Несмотря на это, среди старшего поколения педагогов, логопедов, социологов и даже психологов до сих пор бытует мнение о том, что изучение языков, особенно в раннем возрасте, может привести к путанице. Более того, существует заблуждение, что двуязычие и вовсе опасно для психического здоровья: «...билингвизм – это вредный опыт, предрасполагающий к шизофрении, умственной отсталости и даже моральному разложению» (Marcos, 1976, p. 347).
С другой стороны, считается, что владение двумя языками — это великолепный навык, который в благоприятных обстоятельствах дает билингву любого возраста большую эластичность мышления, большую креативность и адаптивность, а также улучшает когнитивные способности.
Независимо от уровня владения языками, а также от того, в каком контексте приобретался второй язык, в какой период развития (с рождения, в школе, в зрелом возрасте), с кем (с родителем, сиблингом, няней, учителем), билингвы обычно проводят четкие различия между своим первым и вторым языком. И то, как они называют свои языки, всегда тесно связано с тем, как они описывают себя как носителей языка.
УСТАМИ БИЛИНГВА
Многие билингвы говорят об ощущении двойственности или двойной внутренней сущности:
«Рената (первый язык немецкий): ...когда я говорю по-немецки, то как будто становлюсь другим человеком, отличающимся от той меня, которая говорит по-английски... Бернард (первый язык французский): ...у меня другое поведение, даже движения тела другие: более живые и выразительные. Вероятно, я не использую руки, когда говорю по-английски...» (Burk, 2004, p. 320).
Ситуации, в которых и аналитик и его пациент владеют более чем одним языком, стали встречаться все чаще и чаще, приобретая характер «новой нормы».
Эта двойственность имеет несколько конструкций. Например, одна из конструкций, которую условно можно назвать «ни тот, ни другой» (заметьте, не «и тот, и другой»), переживается билингвом как чужеродность:
«Анжела (первый язык итальянский): ...и вот ты живешь на чужой земле, чужой особенно в языковом отношении. Ты ни тот и ни другой. И это довольно... изолирующий фактор в твоей жизни. Хм. У тебя как бы раздвоение личности...» (Burk, 2004, p. 330).
Если ближайшее окружение билингва говорит на языке меньшинства, то он может воспринимать мир как бы удвоенным, другими словами, как два отдельных мира, которые разделены языковыми различиями:
«Анжела (первый язык итальянский): ...ты научаешься хорошо играть разные роли, потому что сегодня тебе приходится вести себя определенном образом в англоязычном сообществе, а потом вдруг ты оказываешься в сицилийском сообществе, где все другое, вплоть до манеры вести себя, одеваться, разговаривать, и так далее...» (Burk, 2004, p. 330).
Билингвы часто ощущают свою двойственность. Они по-разному вспоминают об одном и том же событии на разных языках, по-разному ассоциируют, в зависимости от языка, который используют для этого.
Также ощущение двойственности может быть связано с отдельными периодами жизни, прожитыми на разных языках или в разных местах. Другими словами, билингвы могут ощущать время, как удвоенное:
«Ихсан (первый язык фарси): ...вы в какой-то степени знаете родной язык, а затем вы переходите в другую культуру, говорите на другом языке ... и когда вы возвращаетесь к тому, первому языку, то находите, что он как будто не тронут временем... Кто-то сказал мне, что на фарси я говорю, как подросток...
Урсула (первый язык датский): ...не все то, что я приобрела на английском, я перенесла на датскую меня. На датском я — все тот же проблемный подросток, запертый в своем собственном мире...» (Burk, 2004, pp. 330-331).
Еще одна конструкция двойственности касается переживаний подлинности собственного self. Если первый язык и культура подвергаются нападкам или дисквалификации, то self «на первом языке» переживается как аутентичое, включающее культурную идентичность, в то время как self «на втором языке» переживается как ложное self.
Билингвы, живущие в условиях языковой и культурной нестыковки и противоречий и ощущающие свою двойственность, все же достигают связности в мышлении, прилагая все усилия для того, чтобы сохранить ощущение целостности и непрерывности self.
Тем не менее можно утверждать, что билингвы, живущие в условиях языковой и культурной нестыковки и противоречий и ощущающие свою двойственность, все же достигают связности в мышлении, прилагая все усилия для того, чтобы сохранить ощущение целостности и непрерывности self. Обращение к себе как к двойственной личности может рассматриваться как способ парадоксальной интеграции, при которой достигается сплоченность и сохраняются различия. «Поскольку я на собственной шкуре познал относительность культурных смыслов, я не могу воспринимать какой-то один набор смыслов как окончательный...» (Hoffman, 1989, p. 275). Кроме того, можно предположить, что «использование» билингвами различных конструкций двойственности отражает тот дуализм, который присущ человеку в целом.
ОЩУЩЕНИЕ «Я ДОМА» ПО СРАВНЕНИЮ С «БОТИНКАМИ, КОТОРЫЕ ЖМУТ»
В большинстве случаев первый язык считается языком близости, как обозначающим, так и порождающим ее. Другими словами, использование в речи первого языка является маркером близости, а легкость, которую билингвы бессознательно переживают, говоря на первом языке, по сравнению с трудностями на втором, обеспечивает им ощущение того, что «они дома»[3]. «Слова наполнены знакомостью... пронизаны воспоминаниями о детстве и юности» (Pavlenko, 2006, p. 22). Просодические элементы первого языка: звуки, ритмы, приливы и отливы, его музыка, всегда привлекают к себе внимание, их отчетливо слышно в толпе. Также билингвы зачастую считают первый язык языком творчества, поэзии, игры и юмора (Burk, 2004).
Второй язык, в отличие от первого, билингвы называют «неудобной обувью» или «пианино, у которого отсутствует несколько клавиш» (Burk, 2004). Они воспринимают его как более формальный и ограничивающий. Некоторые билингвы чувствуют себя неполноценными, потому что постоянно сравнивают свое двуязычие с неким «монолингвальным» идеалом (De Houwer, 2015). В частности, это может быть недовольство тем, что они не могут писать на двух языках одинаково хорошо, как это делают монолингвы на одном языке. Многие также испытывают трудности в том, чтобы шутить на втором языке, в результате чего им кажется, что окружающие думают о них как о людях, полностью лишенных чувства юмора. В целом, переживания, связанные с неспособностью внятно изъясняться на втором языке, оказывают глубокое влияние на представление билингвов о себе, как о говорящих.
Также отмечается, что второй язык часто вносит дистанцию в коммуникацию билингвов, как в целях защиты от других, так и в качестве дистанцирования от самих себя и от языка, как такового:
Санте (первый язык французский): «...никто никогда не разобьет мне сердце английскими словами. Только дома [на французском] я обнажен и уязвим...» (Burk, 2004, p. 321).
Билингвы могут ощущать время как удвоенное.
С другой стороны, некоторые билингвы считают, что второй язык дает им большую свободу самовыражения, «освобождая» от тех ограничений, которые заложены в первом языке, позволяя идти на «больший риск»:
«Эстель (первый язык финский): ...мм, я думаю, что на английском мне легче говорить о... [пауза] Я навсегда запомнила тот случай, когда я только-только начала уверенно говорить по-английски, я сразу стала нецензурно выражаться [смеется]. На финском я себе такого не позволяю...» (Burk, 2004, p. 321).
Некоторые аналитики полагают, что проработка ранних конфликтов должна, в конечном итоге, осуществляться на том языке, на котором были закодированы ранние объектные отношения.
Также отмечается, что билингвы могут переживать некоторые чувства только на том языке, на котором они могут их выразить. Как будто языки различаются тем, что позволяют или даже требуют от билингва что-то говорить, а о чем-то умалчивать:
«Ди Инь (первый язык – диалект – мандарин): ...если вы злитесь, то вы должны подавлять это, особенно в китайской культуре. На мандаринском или шанхайском диалекте я никогда не чувствовую себя злой. А на английском злость выражать можно. Только почему-то после того, как я злюсь, я чувствую упадок сил...» (Burk, 2004, p. 322).
ЯЗЫК, КАК ОРГАНИЗАТОР ОПЫТА
Наблюдения нейрофизиологов за потерей и восстановлением языка у билингвов, страдающих афазией вследствие цереброваскулярного инсульта или психоорганического синдрома, показали, что большие сегменты языков «хранятся» в четко различающихся областях коры головного мозга, которые только частично перекрывают друг друга. Эти выводы подтвердили нейролингвисты, которые исследовали кору головного мозга пациентов-билингвов, перенесших нейрохирургические операции, подвергая их мозг электростимуляции. Они смогли «наметить» крупные области коры, специфичные для каждого из языков, а также те области, в которых представлены оба языка. Из этого можно сделать вывод, что разные участки головного мозга участвуют в кодировании и извлечении информации из разных языков (Byford, 2015).
Использование в речи первого языка является маркером близости, а легкость, которую билингвы бессознательно переживают, говоря на первом языке, по сравнению с трудностями на втором, обеспечивает им ощущение того, что «они дома».
Колерс (Kolers, 1963) отмечал, что слово для билингва несет одно и то же концептуальное значение в обоих языках, но связано с двумя отдельными потоками ассоциаций, специфических смыслов и аффектов. Например, для двуязычного носителя русского и английского языков слово «стол» и слово «table» обозначают одно и то же — предмет мебели, который представляет собой приподнятую горизонтальную поверхность, опирающуюся на ножки. Однако, каждое из этих слов вызывает цепочку совершенно уникальных ассоциаций. Причем, чем более эмоционально заряженным является слово, тем сильнее будут различаться ассоциации на каждом из языков:
«Слово «church» (церковь) вызывает у меня образ той или иной канадской протестантской или католической церкви. А финский эквивалент слова «church» — «kirkko» — вызывает у меня смутный образ белой, деревянной лютеранской церкви в районе Садбери, где я жил в возрасте от четырех до восьми лет» (Schrauf, 2000, p. 394).
Помимо этого, билингвы по-разному воспринимают и описывают одно и то же состояние и поведение на разных языках. Например, на одном языке напористость расценивается как приемлемое и даже ценное поведение, а на другом – как эгоистичное и жестокое. Примечательно, что это применимо и к гендерному поведению, например, на одном языке угодливость одобряется в качестве проявления женственности и соответствия культурным нормам, а на другом порицается как проявление слабости и считается излишней. То же самое касается и восприятия событий, например, на одном языке билингв способен увидеть смешную сторону происходящего, а на другом – нет (Byford, 2015).
В дополнение ученые также исследовали язык в контексте его организационного потенциала и объема памяти и доказали, что язык влияет на классификацию стимулов и последующее воспоминание об опыте. Другими словами, билингвы по-разному вспоминают о прошлых событиях на каждом из языков. Исследователи оценили то, как билингвы описывают собственные автобиографические события на разных языках, и обнаружили, что воспоминания отличаются. Если билингв вспоминает о событиях на том языке, на котором они произошли, то есть, на языке фактического опыта, то содержание, детализация и эмоциональная насыщенность этих событий, будет отличаться от воспоминаний о тех же событиях, но на другом языке (Javier et al., 1993).
Таким образом, однажды приобретя, билингв сохраняет и поддерживает две отдельные языковые системы, «каждая из которых имеет свои собственные лексические, синтаксические, фонетические, семантические и идеологические компоненты» (Javier et al., 1993). Кроме того, два языка билингва можно описать как «независимые» друг от друга. Причем, их «независимость» относится не только к тому, что опыт «хранится» отдельно в двух лингвистических системах, но также активируется и извлекается из них в зависимости от того, какой язык используется в данный момент (Tsatsas & Hewison, 2011).
ДВОЙНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БИЛИНГВА
В статье «Билингвальный дуэт на 2 голоса» Перес Фостер утверждала, что билингвы живут в «двойной психической реальности» (Pérez Foster, 1996, p. 99). Она также пришла к выводу о том, что билингвы обладают различными репрезентациями себя, каждая из которых «организована» вокруг соответствующего языка. Билингвы обладают двойными шаблонами, с помощью которых они формируют и организуют свой мир, а также двумя наборами вербальных символов (слов), которые кодируют их переживания и дают возможность эти переживания выражать. В некоторых случаях эта способность заставляет их чувствовать себя особенными, немного волшебниками, своего рода ясновидящими или обладателями «третьего уха»[4]; а в других – слегка сумасшедшими и расщепленными на части.
Второй язык, в отличие от первого, билингвы называют «неудобной обувью» или «пианино, у которого отсутствует несколько клавиш».
«Я помню, что говорил на двух языках с двенадцати лет,
Всегда задаваясь вопросом, я сумасшедший или просветленный? Либо и то, и другое?
Я помню названия вещей либо на английском, либо на испанском. Английский для политики, испанский для любви.
Английский для практики, испанский для теории.
Английский для выживания, испанский для смеха.
Английский для времени, испанский для пространства. Английский для искусства, испанский для литературы»
(Гильермо Гомез-Пенья, мексикано-американский поэт и сценарист, 1991).
Действительно, психоаналитическая концепция расщепления[5] имеет особое значение для людей, говорящих на двух языках. Но билингвизм не является причиной расщепления, напротив, «процессы расщепления опираются и определенным образом используют различные языковые регистры как средство организации и самовыражения» (Amati-Mehler et al., 1993, p. 264). Прекрасным примером является исследование двуязычия Сэмюэля Беккета, проведенного Патриком Кейсментом, в котором говорится, что единственным средством, с помощью которого он вновь смог обрести внутреннюю свободу и шансы на творчество, было отречение не только от матери и родины, но, прежде всего, от родного языка (Costa & Dewaele, 2012). Иначе говоря, расщепление и создание «нового» self для каждого из языков, на которых говорит билингв, является способом кодирования его опыта. «Когда мы меняем язык, трансформируется наша личность. Нам нужно стать новыми selves...» (Pavlenko, 2006).
Кляйн, Фейрберн, Кохут, Кернберг и другие утверждали, что изначально аспекты self формируются на основе раннего опыта взаимодействия со значимыми другими. Мелани Кляйн и ее последователи понимали значение слов как цепочку конфигураций и «переговоров» объектов self, включая аффективные, когнитивные и социальные компоненты, которые участвовали в выработке этих значений. «Слова — это символические капсулы прошлого, связанные с объектами. Слова — это голос self и голос [значимого] другого. Слова — это потенциальные источники ранних смыслов в “маленьком обществе, состоящем из двух человек”» (Pérez Foster, 1996, p.108).
Переживания, связанные с неспособностью внятно изъясняться на втором языке, оказывают глубокое влияние на представление билингвов о себе, как о говорящих.
Из этого следует, что объектные отношения и конкретный язык, на котором они были закодированы, прочно связываются и переплетаются, и в таком виде интериоризируются в сложную и пеструю матрицу саморепрезентаций билингва. Другими словами, в каждом из языков конденсируются вербальные символы и тот значимый другой, который эти символы предлагал (Pérez Foster, 1996).
Билингв представляет собой как бы упакованную головоломку, в которой две эмпирические системы, каждая из которых ограничена своим языком, находятся в пределах одной психики. Как будто внутренняя жизнь билингва и его ощущение себя отображает сложный дуэт голосов, исходящих из двух различных символических миров, которые должны сосуществовать, сотрудничать и, возможно, даже конкурировать, чтобы в конечном итоге сформировать иллюзию гармоничного двуязычного self.
Уникальность билингва заключается в том, что несмотря на ощущение двойственности и тех противоречий, которые его сопровождают, билингв способен найти пути интеграции собственных различающихся точек зрения. Или, используя музыкальную метафору «контрапункта»[6], написать полифоническую музыку, в которой одновременно сочетаются две и более мелодий, где каждая перспектива обозначается и попеременно меняет свою позицию по отношению к другой, создавая новое мышление.
МЕСТО ЯЗЫКА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Когда Зигмунд Фрейд поставил свое кресло в изголовье аналитической кушетки, он создал символическое пространство, в котором все внимание аналитика сосредоточилось на речи пациента. Таким образом, вербальная коммуникация пациента и аналитика заняла центральное место в психоаналитической практике. Более того, Фрейд сравнивал проявления бессознательной психической деятельности с иностранным языком, а сам психоанализ — с его переводом.
Аналитический процесс совершенно уникален в своей способности возвращаться к самым ранним значениям слов и собственного опыта (Wilson & Weinstein, 1990). Например, чувственные (пресимволические) состояния могут вызываться простой просодией речи аналитика: ее ритмы и интонации могут окутывать пациента как звуковая оболочка раннего материнского мира, возвращая его в то время, когда он ребенком погружался в купель из звуков родного языка. Сами слова можно рассматривать как носители переноса in situ, которые являются символическими контейнерами self и значимого другого в каждый момент сессии. Использование слов в аналитическом переносе может взывать к разным символическим стадиям развития языка, воскрешая смыслы уникальных взаимодействий self с объектами. Таким образом, терапевтическому процессу открывается возможность прямого наблюдения за развитием self пациента, а также теми внутренними конфликтами и защитами, которые были сформированы во время приобретения слов (Wilson and Weinstein, 1990).
Что изменяется в ситуации, когда родные языки пациента и аналитика отличаются и анализ ведется на неродном языке пациента или аналитика, или попеременно на двух языках? Безусловно, такие случаи являются весьма интригующими для психоанализа.
Билингвы могут переживать некоторые чувства только на том языке, на котором они могут их выразить. Как будто языки различаются тем, что позволяют или даже требуют от билингва что-то говорить, а о чем-то умалчивать.
БИЛИНГВАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Шандор Ференци был первым аналитиком, предпринявшим попытку понять ту роль, которую язык играет в процессе анализа, если родные языки пациента и аналитика отличаются. В статье «О непристойных словах» 1911 года он обратил внимание на то, что пациенты склонны избегать непристойных слов, говоря на своем первом (родном) языке. Он предполагал, что таким образом они подавляют сексуальные мысли, а также избегают вербализации сексуальной терминологии аналитиком. Ференци считал, что в анализе пациент переключается на второй язык для того, чтобы защититься от эмоционального заряда, который несет в себе «эротическая лексика» первого языка, и от болезненных ассоциаций, связанных с ней (Tsatsas & Hewison, 2011). Сам Ференци был «зажат» между его родным венгерским и приобретенным позже немецким языком, на котором он анализировал, и это, должно быть, заставило его задуматься о том, что при смене языка и удалении звуков и образов детской сексуальности, также удаляется нечто «подлинное». Он предположил, что: «...эти [поздние] слова, как таковые, заставляют пациента оживлять в памяти картины галлюцинаторным образом, но не обладают непосредственностью воспоминания» (Tsatsas & Hewison, 2011, p. 100).
Перес Фостер писала (Pérez Foster, 1996), что часто наблюдала, как ее пациенты-билингвы в ходе сессии спонтанно переключались с одного языка на другой, что, в свою очередь, служило сигналом об изменениях в переносе. Она пришла к выводу, что пациент-билингв выбирает язык анализа (или части аналитической сессии), бессознательно пытаясь воссоздать чувственное настроение, а также специфические ассоциации, которые изначально переживались именно на этом языке. Действительно, на сессии пациент (также как и аналитик) может чередовать языки или использовать один язык как «подчиненный», а другой – как «доминирующий». Также один язык может озвучивается, а другой оставаться внутренним и беззвучным. Кроме того, один язык (зачастую первый) может использоваться реже, чем другой, в силу большой тревоги пациента.
Слово для билингва несет одно и то же концептуальное значение в обоих языках, но связано с двумя отдельными потоками ассоциаций, специфических смыслов и аффектов.
Причем, речь идет не только о языковых различиях в самовыражении пациента, но и о том, насколько точно он может реконструировать свой опыт на том языке, который изначально не кодировал и не организовывал эти события. Учитывая множество сложных психодинамических и когнитивных искажений, которые, как описывалось выше, вмешиваются в процесс воспоминания, реконструкция событий на втором языке оказывает непосредственное влияние на аналитическую проработку раннего конфликтного и травматического материала (Pérez Foster, 1992).
Билингвы по-разному воспринимают и описывают одно и то же состояние и поведение на разных языках.
В книге «Мать — отец глухие: жизнь между звуком и тишиной» Пол Престон описал процессы ассимиляции и культурной идентификации так называемых CODA[7] – детей глухих родителей (Preston, 1998). Эти люди в какой-то степени тоже являются билингвами, поскольку способны одинаково свободно коммуницировать на двух языках, включая язык жестов, на котором в детстве общались с родителями. Те из них, кто проходил психотерапию, рассказывали, что впадали в оцепенение и растерянность во время сессий, когда у них возникал импульс «сказать» что-то на непонятном аналитику языке жестов. Поэтому можно предположить, что реконструкция событий на втором языке оказывает непосредственное влияние на аналитическую проработку раннего конфликтного и травматического материала В статье о роли второго языка в формировании Эго и Суперэго психоаналитик Эдит Буксбаум, уроженка Вены, эмигрировавшая в Сиэтл в 40-х годах прошлого столетия, представила несколько клинических виньеток, в которых проиллюстрировала выбор английского языка немецкими пациентами для прохождения анализа (Tsatsas & Hewison, 2011). Она изучала бессознательные процессы расщепления между Эдиповыми вытесненными воспоминаниями и формированием авторитарного Суперэго, и пришла к выводу о том, что английский язык являлся средством защиты и механизмом дистанцирования пациентов от эмоционального содержания их родного немецкого языка. Также она прокомментировала феномен произношения слов с акцентом, особенно, если это делала она сама, аналитик, говоря с пациентами на английском языке с немецким акцентом. Она указала на постоянную связь с двумя языками, которую билингвы, пациент и аналитик в данном случае, поддерживают внутри себя посредством восприятия на слух произносимых слов.
Билингв сохраняет и поддерживает две отдельные языковые системы, «каждая из которых имеет свои собственные лексические, синтаксические, фонетические, семантические и идеологические компоненты».
Аналитик Ральф Гринсон, который также переехал из Вены в США, проходил свой тренинговый анализ на английском языке. В 1950 году он представил доклад о клиническом взаимодействии родного и приобретенного позже языка, в котором предположил, что второй язык является языком интеллектуализации и отстраненности, а первый языком регрессии и более раннего эмоционального опыта. Также он отметил, что те пациенты, которые выбирают второй язык для анализа, тем самым избегая родного, делают это для того, чтобы вытеснить раннюю идентичность Эго, посредством пресечения примитивных воспоминаний и страхов. На клиническом примере Гринсон продемонстрировал то, как одна из его пациенток, обнаружив, что он владеет и немецким и английским языком, также как и она, отказалась продолжать анализ на немецком, заявив:
«Мне страшно. У меня такое чувство, что, говоря по-немецки, я должна буду вспомнить то, что знала когда-то, но теперь хочу забыть» (Tsatsas & Hewison, 2011, p. 101).
На родном немецком языке эта пациентка ощущала себя «маленьким грязным ребенком», который боролся с компульсивным использованием непристойных слов и мастурбационными фантазиями, в то время как на английском она ощущала себя «нервозной утонченной женщиной», которая могла мастурбировать как леди без всяких постыдных фантазий (там же).
Амати-Мелер и соавторы (Amati-Mehler et al., 1993) утверждали, что клиническая работа на родном языке пациента способствует насыщению аналитического диалога звуками, понятиями и концепциями, связанными с мнемическими (трансформационными) объектами Болласа[8], и, следовательно, активирует в пациенте более эмоционально насыщенные переживания. Аннет Байфорд также утверждала (Byford, 2011), что проведение анализа на первом языке пациента обеспечивает более высокий уровень возбуждения при воспоминаниях, более сильный эмоциональный аффект, связанный с этими воспоминаниями, и более высокий уровень регрессии с соответствующим усилением симптомов. Но, если в терапевтическом процессе пациент использует в основном второй, приобретенный позже язык, то его внутренний мир остается частично недоступным для вербальной коммуникации, поскольку его высокоэмоциональные аспекты «не зависят» от второго языка (Tsatsas & Hewison, 2011).
Однако, Байфорд (Byford, 2011) также утверждала, что если учитывать специфический автобиографический и культурный контекст изучения и использования второго языка, то представляется возможным взглянуть на творческий потенциал билингвизма и переключения языков в анализе с другой перспективы. Например, второй язык может обеспечить более безопасный «уровень входа» в анализ, позволяя приблизиться к тому «горячему» материалу, который кажется слишком опасным на первом языке. Также анализ на втором языке может быть более эффективным, чем на первом, если регрессия пациента, которая ожидается у него при проведении анализа на родном языке, приведет к рецидиву симптомов, вызванных его высокой тревожностью. Второй язык может позволить пациенту осознать или предложить подходящее выражение для запретных или отвергнутых частей self, которые являются табуированными или подвергаются цезуре на первом языке. Например, если в языке существуют культурные запреты на сексуальность или гнев, то пациент может испытывать сильный стыд или вину, которые будут препятствовать их осознанию; на другом языке ситуация может в корне отличаться (Kokaliari et al., 2013).
Также в билингвальном анализе невротических пациентов особое значение имеют идеи Бриттона о внутренней триангуляции, которая возникает в результате успешной проработки Эдипова комплекса. Триангуляция по Бриттону — это приобретение способности смотреть на себя со стороны и принимать другую точку зрения, сохраняя при этом свою собственную. Другими словами, мыслить и удерживать двусмысленность. Пациенты-билингвы обладают двумя различающимися «наборами» для обработки своего опыта, что позволяет им сохранять дистанцию, используя ее в качестве защиты. Это означает, что нечто ценное может теряться при переводе с одного языка на другой. Однако та же самая дистанция позволяет этим пациентам создать пространство для размышлений, в котором они могут получить доступ к внутренним конфликтам через лингвистическую и трансферентную матрицу, созданную в ходе анализа с двуязычным терапевтом. Тогда что-то ценное, наоборот, будет приобретаться при переводе с одного языка на другой (Byford, 2011).
Билингвы живут в «двойной психической реальности».
ПЕРЕНОС
Кокалиари и соавторы (Kokaliari et al., 2013) утверждали, что лингвистический и культурный состав аналитической диады в значительной степени формирует перенос. Если пациент и аналитик имеют разное культурное происхождение, то перенос может варьировать от чрезмерного обожания до неприязни и недоверия к аналитику. Например, пациенты могут идеализировать родной язык (страну) и испытывать разочарование, гнев и враждебность по отношению к новому языку и аналитику. Многие аналитики попросту недооценивают языковые проблемы своих билингвальных пациентов, а также то, что языковой барьер провоцирует усиление их паранойи и агрессивности во время аналитических сессий (De Maesschalck, 2012).
Билингвы обладают двойными шаблонами, с помощью которых они формируют и организуют свой мир, а также двумя наборами вербальных символов (слов), которые кодируют их переживания и дают возможность эти переживания выражать.
Другой распространенной трансферентной реакцией является идеализация нового языка и, как следствие, аналитика, и тогда пациент-билингв может начать воспринимать аналитика обнадеживающим и многообещающим, неявно приглашая его «занять место всезнающего» (Antinucci, 2004, p. 1158). Пациенты также могут проявлять интерес к стране аналитика, вероятно бессознательно ища сходство с «иностранным» аналитиком для того, чтобы развить новые идентичности. Также пациенты могут чувствовать себя подавленными, обесцененными или бесправными, и бояться быть отвергнутыми или непонятыми аналитиком.
Если аналитик и пациент имеют одни и те же языковые и культурные корни, то пациент может начать воспринимать аналитика как идеального билингва, который преуспел в новой стране и преодолел языковые трудности. С другой стороны, культурное сходство может вызывать и чувство зависти, и тогда пациент будет воспринимать успех аналитика как предательство по отношению к своей культуре. Также некоторые пациенты могут считать, что аналитики-билингвы не могут эффективно работать, обесценивая или дисквалифицируя их, из-за предполагаемого недостаточного владения вторым языком (Kokaliari et al., 2013), что является проявлением феномена «зависти к себе» у пациента.
КОНТРПЕРЕНОС
Культурные и языковые факторы также могут оказывать сильное влияние и на контрперенос аналитика (Kokaliari et al., 2013). Аналитик может обнаружить себя отрицающим культурные и языковые различия или, наоборот, сосредоточиться на исследовании культуры пациента в ущерб его основным жалобам. Контрперенос аналитика может принимать форму вины, сочувствия или даже агрессии, особенно если между группами, представленными в аналитической диаде, существует культурный, исторический антагонизм (Frie, 2011).
Нора Цацас и Дэвид Хьюисон (Tsatsas & Hewison, 2011) указывали, что аналитик может испытывать дискомфорт и напряжение, имея спроецированные ожидания, что принято в культуре пациента, а что – нет, например, принято ли пожимать другу друг руку при встрече, независимо от пола. Также аналитик может испытывать замешательство и беспокойство:
«Она [терапевт] чувствовала тревогу и закрытость из-за того, что казалось ей лингвистическим бессилием. Ее рука, закрывающая рот, была жестом, аналогичным физическим нападкам матери пациента, а также проявлением презрения в интервенциях...
Ее беспокойство проявилось в покупке греческого словаря. Поразмыслив, можно предположить, что это было бегством от примитивных тревог в инкапсулированную безопасность представлений о том, что все можно найти, контейнировать и определить» (Tsatsas & Hewison, 2011, p. 113).
Аналитик может чувствовать себя глупым и ограниченным, сталкиваясь со специфическими оборотами речи, метафорами, шутками и особенно сленгом пациента:
«Я много нервничала вначале... мои опасения в основном были связаны с языковым барьером, с мыслями о том, что мой пациент может не понять то, что я говорю. Или, наоборот, если я не пойму пациента, например, выражение «I was stoned», оказывается, переводится как «я был обкуренный». А я думала, что оно означает «меня закидали камнями»» (Gulina & Dobrolioubova, 2018, р. 8).
Также аналитик может переживать чувство незащищенности и тревоги, теряться в словах, сталкиваясь с тем, что работа на втором языке влияет на точность его интервенций: «Хотел сказать одно, но перевел это по-другому» (Gulina & Dobrolioubova, 2018). Более того, считается, что свободно распределенное внимание аналитика подрывается языковыми проблемами и его интерпретации в какой-то степени теряют свою креативность, богатство и уникальность.
Если аналитик и пациент принадлежат к одному и тому же культурному меньшинству, то аналитик может начать с ним чрезмерно идентифицироваться (мы против них) из-за похожего опыта, связей и доступа к терминам и выражениям, которые невозможно перевести, что приведет к тому, что аналитик упустит что-то важное. Кроме того, аналитик может обнаружить, что становится «чрезмерно заботливым» или «чрезмерно опекающим», отождествляя себя с уязвимостью пациента. Аналитик также может привносить в сессии свою собственную амбивалентность и агрессию, связанные с родным языком и культурой, наряду с потенциальным приобретением статуса, который он имеет в принимающей стране. Аналитик может чувствовать вину за то, что находится в лучшем положении, чем его пациент, и может пытаться компенсировать это, например, излишней активностью (Kokaliari et al., 2013).
Билингвизм не является причиной расщепления, напротив, «процессы расщепления опираются и определенным образом используют различные языковые регистры, как средство организации и самовыражения».
ИГРА СЛОВ
Отдельно необходимо выделить игру слов в анализе. У Зигмунда Фрейда, как известно, был только один русский пациент, Сергей Панкеев, или Человек-Волк, как называл его Фрейд в целях соблюдения конфиденциальности. Его лечение тянулось 10 лет, постоянно давая рецидивы, но так и не было завершено, как будто Фрейд был не в силах постичь русскую душу (или психику, закодированную на русском языке, которого он не знал?). Спустя более чем столетие этот случай все еще будоражит ученые умы, и даже считается «Одесским камнем преткновения» психоанализа, а споры, размышления и критика в его адрес не прекращаются и по сей день. Какую роль в этом «провале» сыграло то, что Фрейд анализировал русского пациента на немецком языке?
«Вдруг он [пациент] вспомнил о сарае в первом имении, в котором хранились собранные плоды, и об определенном сорте груш великолепного вкуса, больших с желтыми полосками на кожице. На его родном языке эти плоды называют груша, это и было ее имя. [Груша]» (Фрейд, 2007, с. 274).
В русском языке слово «груша» обозначает как женское имя (имя няни пациента в данном случае), так и плод и/или фруктовое дерево, в то время как в немецком языке die Gruscha (женское имя) и die Birne (плод) — это 2 разных слова.
Расщепление и создание «нового» self для каждого из языков, на которых говорит билингв, является способом кодирования его опыта.
Но у Зигмунда Фрейда также есть работа «Фетишизм» 1927 года, в которой он блестяще разгадал игру слов, анализируя пациента со своеобразной проблемой. Этот пациент возвысил определенный вид блеска на женском носу до величия и находил женщину сексуально привлекательной только в том случае, если ее нос был «украшен» жирным глянцем [der Glanz]. Родным языком данного пациента был английский, но затем его семья переехала в Германию, где он почти забыл его. Игра слов состояла в том, что по-английски, на языке матери пациента, данное выражение звучало как “glance on the nose” («взгляни на нос»), а по-немецки, на втором языке пациента, как “der Glanz auf der Nase” («блеск на носу»). Фрейд писал:
«Фетиш, происходящий из раннего детства, следовало читать не по-немецки, а по-английски; «глянец [Glanz] на носу», собственно говоря, был «взглядом на нос» (glance = взгляд), то есть нос был фетишем... Фетиш – это замена фаллоса женщины (матери), в который верил мальчик и от которого – мы знаем, почему – он не хочет отказываться» (Фрейд, 2020, с. 331).
Другой пример игры слов можно привести из современного анализа двуязычной пациентки, взрослой женщины, мать которой умерла 7 лет назад. Анализ проводился на родном языке пациентки и аналитика (на русском):
Пациентка: я представляю себя маленьким ребенком, который охраняет тело мертвой матери. Я не могу покинуть его. Если я уйду, то предам ее...
Аналитик: земле?
Пациентка: нет-нет, я имела в виду предательство... предать мать, а не предать ее земле! Но получается, что предать...
Если бы анализ проводился на втором языке пациентки (на английском), то пациентка могла сказать: «If I leave, I will betray her» (если я уйду, то предам ее). Привело бы это к «bury her?» (предать земле, похоронить)? Какие интерпретации или интервенции сделал бы аналитик в этом случае? Какие силы, сценарии, персонажи существовали бы в таком аналитическом поле?
В статье 1953 года «О звуке «м...», Ральф Гринсон подчеркивал связь между зарождением языка, чувственным опытом и первичными отношениями с матерью:
«Звук м-м-м, когда его мурлычут или напевают, позволяет вновь пережить опыт, воспоминание или фантазию удовольствия, испытанного возле материнской груди. Это эхо мурлыканья без слов, которое издает мать, когда кормит или укачивает своего ребенка. Факт того, что звук м-м-м произносится с сомкнутыми губами, указывает, что это — единственный звук, который можно издавать и повторять, держа во рту чтото драгоценное. Этот звук издают, когда сосут грудь или когда ждут этого» (Tsatsas & Hewison, 2011, p. 101).
Используя клинический материал, Гринсон обосновал связь между звуком «м», произносимым взрослым пациентом в состоянии счастья, удовлетворения, предвкушения чего-то очень приятного, и детскими воспоминаниями об эмоциональной связи с матерью через соединение рта и соска материнской груди. Интересно, что во многих языках слово, обозначающее мать, начинается с буквы «м»: «мама» (на русском), “mother” (на английском), “Mutter” (на немецком), “maman” (на французском), “madre” (на испанском) и так далее. На грузинском языке словом «мама» ребёнок называет отца, а словом «дэда» — мать. Какой персонаж будет возникать в аналитическом поле и как он будет трансформироваться, когда пациент-грузин, проходящий анализ на русском языке, произносит слово «мама»? Какое значение это будет иметь в анализе?
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Билингвальный анализ – это сложный процесс, который представляет собой настоящий вызов для аналитика. В связи с этим аналитику-билингву предлагается прежде всего поразмышлять о том, стоит ли ему самому, как и когда, приглашать в аналитическое пространство другой язык, о терапевтических последствиях такой инициативы.
Анализируя пациента-билингва, аналитику необходимо помнить, что выбор языка пациентом, как и переключение кодов в терапии, не является полностью нейтральным событием. Даже если пациент свободно владеет двумя языками, выбор одного из них является, скорее, частью бессознательной динамики, чем сознательным решением. Это существенно влияет на перенос и контрперенос и может, как способствовать созданию и укреплению терапевтического альянса, так и стать причиной подводных камней в ущерб анализу. Поэтому аналитики, работающие с пациентами-билингвами, должны исследовать вопросы выбора языка пациентом особенно тщательно.
Объектные отношения и конкретный язык, на котором они были закодированы, прочно связываются и переплетаются, и в таком виде интериоризируются в сложную и пеструю матрицу саморепрезентаций билингва.
Аналитик должен учитывать, что двуязычные пациенты тратят гораздо больше когнитивной энергии на изложение своей истории на втором языке или на двух языках попеременно, что зачастую заставляет их изменять или даже упрощать сложность своего опыта. Иногда они переключаются между языками в бессознательной попытке создать дистанцию от эмоционально болезненного опыта и представить материал в более отстраненной и безопасной форме. В иных ситуациях они бессознательно презентуют аффективный материал на втором языке только потому, что не могут выразить его иным способом.
С другой стороны, второй язык может действовать как некий туман, мешающий пациенту осознавать свои переживания. Особенно это касается травматического опыта, который произошел на родине и/или при использовании первого языка. Чем более травматичным был этот опыт, тем выше вероятность того, что он будет доступен только на том языке, на котором произошел. В любом случае, аналитик должен обращать внимание на переключения от одного языка к другому.
Как будто внутренняя жизнь билингва и его ощущение себя отображает сложный дуэт голосов, исходящих из двух различных символических миров, которые должны сосуществовать, сотрудничать и, возможно, даже конкурировать, чтобы в конечном итоге сформировать иллюзию гармоничного двуязычного self.
Потенциальные языковые различия в самопрезентации пациента-билингва также являются критически важной динамикой, которую аналитик должен выявлять. Кроме того, аналитику необходимо помнить, что различия в способах бытия и репрезентациях пациента, которые «организованы» вокруг соответствующего языка, могут служить механизмом для защитной изоляции или диссоциации глубоких уровней психического конфликта. Эти процессы следует иметь в виду каждому, кто работает с билингвальными пациентами.
Если аналитик не владеет первым языком пациента, то с той или иной степенью вероятности в лечении будут возникать затруднения. Это связано с тем, что пациенты могут отказываться верить, что аналитик когда-либо поймет то, что они хотят сказать на самом деле, а также то, что они пережили и отреагировали. Напротив, если аналитик владеет теми же языками, что и пациент, это может увеличить вероятность получения доступа к некоторым ранним переживаниям пациента, которые неразрывно связаны с его культурным и языковым прошлым. Возможность свободно перемещаться между родным и приобретенным языками пациента, увеличивает шансы на то, что материал, который пациент приносит на сессии, будет в большей степени доступным для анализа.
Подытоживая, необходимо подчеркнуть, что дальнейшее исследование феномена билингвизма с психоаналитической точки зрения, а также вопросов переключения языков в анализе, как оно происходит, что означает и какое влияние оказывает на анализ, представляется исключительно важным и интересным. Более того, поскольку в настоящее время все большее число билингвов обращаются за психотерапевтическими услугами, а также сами становятся аналитиками, представляется своевременным пересмотреть учебные программы, клиническую практику и супервизии для всех аналитиков – одноязычных и двуязычных – с тем, чтобы учесть меняющийся профиль и языковые потребности пользователей и поставщиков услуг.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Фрейд З. (2007) Знаменитые случаи из практики / Пер. с нем. – М.: «Когито-Центр».
2. Фрейд З. (2020) Собрание сочинений в 26 томах. Том 13-14. Статьи по метапсихологии – Пер. с нем. М.: «Когито-Центр».
3. Шнайдер М. (2008) Последний сеанс Мэрилин. Записки личного психоаналитика / Пер. с англ. РИПОЛ Классик.
4. Amati-Mehler, J., Argentieri, S., & Canestri, J. (1993). The Babel of the unconscious: Mother tongue and foreign languages in the psychoanalytic dimension (J. Whitelaw-Cucco, Trans.). International Universities Press, Inc.
5. Antinucci, G. (2004). Another language, another place: to hide or to be found? International Journal of Psychoanalysis, 85 (5), pp. 1157–1174.
6. Balas, A. (1996). The Babel of the Unconscious: Mother Tongue and Foreign Languages in the Psychoanalytic Dimension by Jacqueline Amati-Mehler, Simona Argentieri and Jorge Canestri translated by Jill Whitelaw-Cucco. Madison, CT: International Universities Press, 1993. Psychoanalytic Books a Quarterly Journal of Review, 7 (4), pp. 555-560.
7. Bollas C. (1993). Being a character: Psychoanalysis and Self Experience. London: Routledge.
8. Burck C. (2004). Living in several languages. Journal of Family Therapy, 26, pp. 314-339.
9. Byford A. (2015). Lost and Gained in Translation: The Impact of Bilingual Clients’ Choice of Language Psychotherapy. British Journal of Psychotherapy, 31 (3), pp. 333-347.
10. Costa, B. & Dewaele, J.-M. (2012). Psychotherapy across languages: beliefs, attitudes and practices of monolingual and multilingual therapists with their multilingual patients. Language and Psychoanalysis, 1, pp. 18-40.
11. Greenson,R.R.(1950).The mother tongue and the mother. International Journal of PsychoAnalysis, 31, pp. 18-23.
12. Gulina, M. & Dobrolioubova, V. (2018). One Language and Two Mother Tongues in the Consulting Room: Dilemmas of a Bilingual Psychotherapist. British Journal of Psychotherapy, 34 (1), pp. 3-24.
13. De Houwer, A. (2015). Harmonious bilingual development: young families’ well-being in language contact situations. International Journal of Bilingualism, 19 (2), pp. 169–184
14. De Maesschalck, S.(2012).Linguisticandculturaldiversityintheconsultingroom:Atango between physicians and their ethnic minority patients. Unpublished Doctoral Dissertation, Ghent University.
15. Frie, R. (2011). Irreducible cultural contexts: German-Jewish experience, identity, and trauma in a bilingual analysis. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, 6 (2), pp. 136–158.
16. Hall, S. (1996). Introduction: Who needs identity? In S. Hall and P. du Gay (eds) Questions of Cultural Identity. London: Sage.
17. Harris,A.(1992).Dialoguesastransitionalspace:Arapprochementofpsychoanalysisand developmental psycholinguistics. In: Relational Perspectives in Psychoanalysis, ed. N. Skolnick & S. Warshaw. Hillsdale, NJ: The Analytic Press, pp. 119-145.
18. Hoffman, E. (1989). Lost in Translation: A Life in a New Language. London: Minerva.
19. Hoffer A.(1989).Can there be translation without interpretation? International Review of Psycho-Analysis, 16 (2), pp. 207-212
20. Javier, R.A. Barroso, F. & Mufioz, M. A. (1993). Autobiographical memory in bilinguals. Journal of Psycholingustic Research, 22, pp. 319-338.
21. Kokaliari E., Catanzarite G. & Berzoff J.(2013).It Is Called a Mother Tongue for a Reason: A Qualitative Study of Therapists’ Perspectives on Bilingual Psychotherapy — Treatment Implications, Smith College Studies in Social Work, 83 (1), pp. 97-118.
22. Kolers, P. A. (1963). Interlingual word associations. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 2: 291–300.
23. Marcos, L. R. (1976). Linguistic Dimensions in the Bilingual Patient. American Journal of Psychoanalysis, 36, pp. 347-354.
24. Pavlenko A.(2006).BilingualMinds:EmotionalExperience,ExpressionandRepresentation. (Bilingual Education and Bilingualism, 56). Multilingual Matters.
25. Pérez Foster, R-M. (1992). Psychoanalysis and the bilingual patient: Some observations on the influence of language choice in the transference. Psychoanalytic Psychology, 9, pp. 61–76.
26. Pérez Foster R-M. (1996). The bilingual self duet in two voices. Psychoanalytic Dialogues, 6 (1), pp. 99-121.
27. Preston P. (1998). Mother Father Deaf: Living between Sound and Silence. Harvard University Press; Revised edition (July 21, 1998).
28. Rolland L., Dewaele J-M. & Costa B.(2017).Multilingualism and psychotherapy: exploring multilingual clients’ experiences of language practices in psychotherapy, International Journal of Multilingualism, 14 (1), pp. 69-85.
29. Schrauf R. (2000).Bilingual Autobiographical Memory: Experimental Studies and Clinical Cases. Culture & Psychology, 6 (4), pp. 387-417.
30. Tsatsas N. & Hewison D. (2011). Living in Two Languages: a Bilingual Couple Therapist’s Experience of Working in the Mother Tongue, Couple and Family Psychoanalysis 1 (1) pp. 97-116.
31. Walsh S. (2014). The Bilingual Therapist and Transference to Language: Language use in Therapy and its Relationship to Object Relational Context, Psychoanalytic Dialogues: The International Journal of Relational Perspectives, 24 (1), pp. 56-71.
32. Wilson A. & Weinstein, L. (1990). Language, thought and interiorization. Contemporary Psychoanalysis, 26, pp. 24-40.
[1] Родным языком Зигмунда Фрейда был немецкий язык, помимо него он знал английский, французский, итальянский, испанский, греческий, латынь, ассирийский, египетский и древнееврейский, на котором иногда делал записи в своем дневнике.
[2] Аккультурация – процесс взаимного влияния культур, обмена культурными особенностями, а также полное или частичное восприятие одним народом культуры другого народа, в результате которого оригинальные модели одной или обеих групп могут изменяться, но оставаться по-прежнему различимыми. Важно не путать аккультурацию с ассимиляцией, при которой один народ полностью утрачивает свой язык и культуру в процессе контакта с другим народом, более доминантным.
[3] Вероятно, это связано с тем, что овладение первым языком в раннем возрасте можно расценивать как способ, с помощью которого младенец начинает отделяться от матери, а также как средство взаимоотношений с другими людьми (Costa & Dewaele, 2012). Отчасти это объясняет также и то, почему некоторым людям так сложно выучить новый язык, когда они мигрируют. Это может вызывать все виды тревоги, связанные с разлукой и потерей, не только с матерью, но и с родиной и родным языком.
[4] Третье ухо – метафорический термин американского психоаналитика Теодора Рейка (ученика Зигмунда Фрейда), который он использовал в своей автобиографической книге «Слушание третьим ухом», описывая то, как психоаналитики должны слушать своих пациентов.
[5] В рамках данной статьи под расщеплением подразумевается процесс отделения от себя сложных эмоций и переживаний для того, чтобы защититься от эмоциональной боли. Оно может выполнять как защитную функцию, так и приводить к путанице, искаженному восприятию себя и других.
[6] Контрапункт (от латинского «punctum contra punctum»), что в переводе означает «точка против точки», или нота против ноты. В музыке этот термин также обозначает сочетание нескольких мелодических «сюжетных» линий, а в литературе, и в кино отдельную, побочную линию сюжета, которая оттеняет основную линию. В полифонической музыке голоса не подчиняются друг другу (как мелодия и аккомпанемент), а являются самостоятельными и равнозначными. Разумеется, для того чтобы несколько отдельных мелодий вместе создавали единое звучание, они должны быть написаны определенным образом. Принципы их сочетания называют правилами контрапункта.
[7] CODA – аббревиатура от «Child of Deaf Adult(s)», что в переводе с английского обозначает «ребенок глухого(их) взрослого(ых)».
[8] Мнемические объекты Болласа – это первичные внутренние объекты младенца, которые являются значимыми в силу того, что он с ними проективно идентифицируется, чаще всего это – мать.