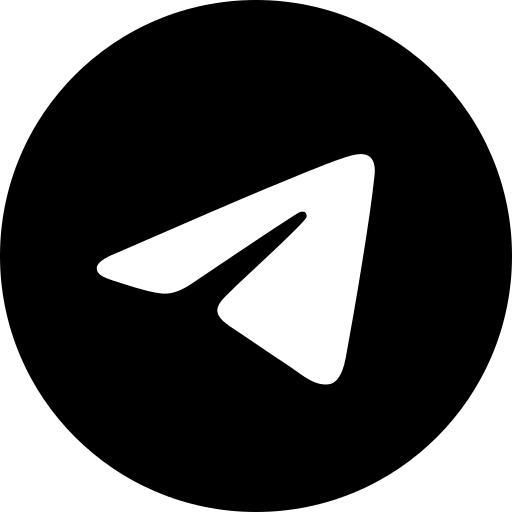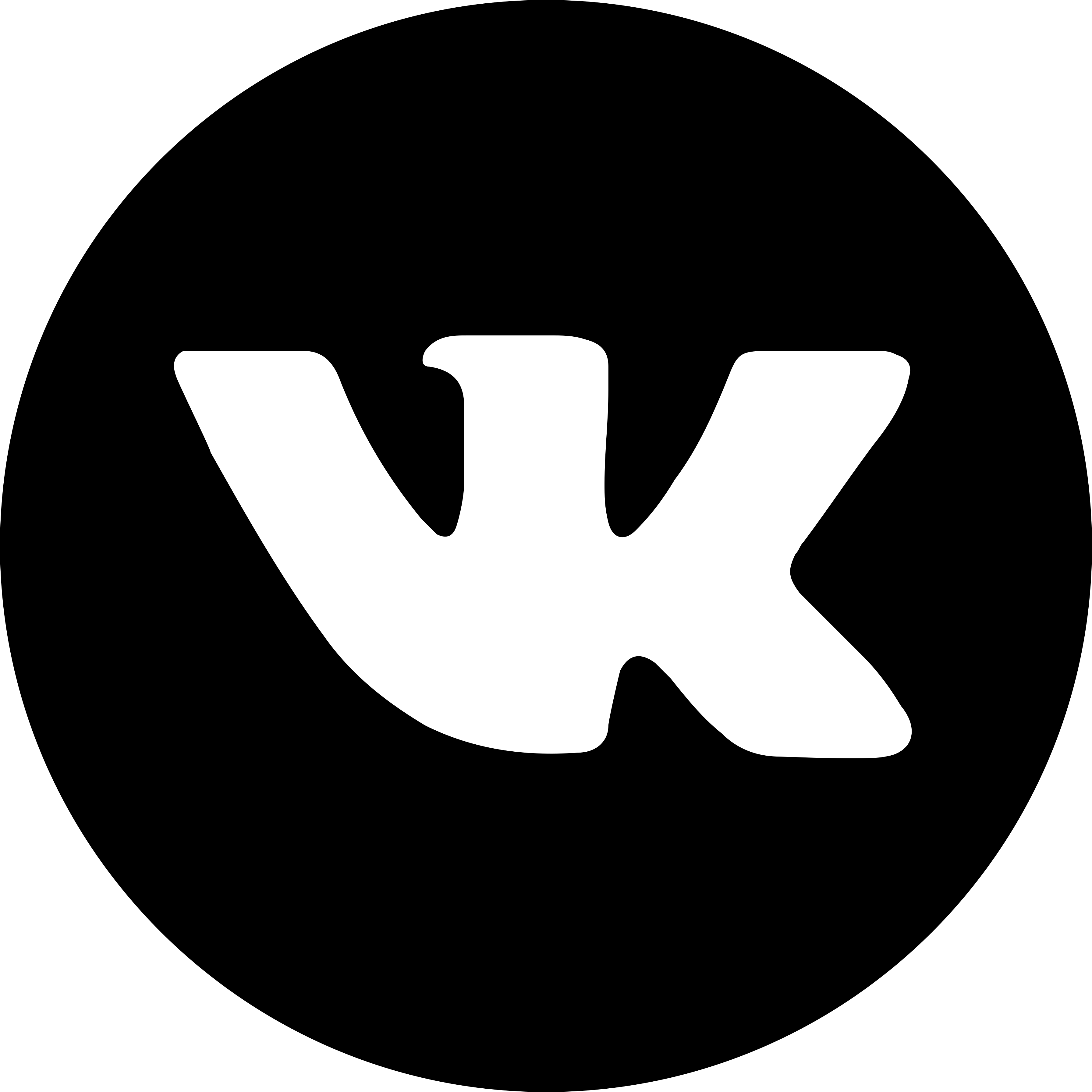- Доктор философии, психолог-консультант
- Автор популярных циклов вебинаров «Анатомия травмы»
- Автор статей и эссе по психологии, психоанализу и семиотике

- Доктор философии, психолог-консультант
- Автор популярных циклов вебинаров «Анатомия травмы»
- Автор статей и эссе по психологии, психоанализу и семиотике
– Мария, вы автор статей и вебинаров о травме и терапии травмы. Чем обусловлен выбор этой темы?
– Обычно вопрос: «почему вы интересуетесь темой травмы?» я задаю участникам своих вебинаров во время знакомства. Теперь вы спросили об этом меня...
Несколько лет назад в моей жизни произошло трагическое событие. Мой муж, 38 лет, который никогда ничем не болел и всю жизнь был здоров, как морпех перед высадкой, совершенно неожиданно, буквально на ровном месте, заболел раком. И через полтора года умер. Его неожиданная болезнь, внезапная смерть, необходимость (и мое абсолютное нежелание) пережить все это – это тот опыт, который привел меня в терапию. И, по факту, это то, из-за чего я стала психологом.
История моей личной терапии сложилась причудливым образом. В течение двух лет я сменила трех терапевтов (все они были аналитиками): из первой терапии я ушла сама, из второй меня выгнали, а третья… она просто случилась. Все это было очень остро, очень нервно и невероятно болезненно. Меня выгнали из психоанализа!.. Сейчас это звучит комично, а тогда я, помню, очень переживала.
Сейчас я стабильно, прочно и глубоко в терапии. Мой нынешний терапевт, которой я бесконечно благодарна, оказалась первой и единственной, кто имел ясное и четкое представление о том, что со мной делать. В какой-то момент мне стало понятно, что среди аналитиков очень мало специалистов, которые понимают и чувствуют специфику терапии травмы. И я решила: надо, чтобы кто-то постоянно, в фоновом режиме говорил и разъяснял, что такое травма; в чем ее специфика; что чувствует человек, переживший травматическое событие; какие процессы происходят в его психическом аппарате; как это выглядит в терапии; какие есть теоретические подходы к этой проблеме; какие у нас есть эффективные методы и техники работы с травмой. Мой первый вебинар по травме состоялся в январе 2022 года.
В кабинете человеку, пережившему травму, не нужно ничего вскрывать.
Классическое психоаналитическое образование, на мой взгляд, формирует специалистов, которые по окончанию институтов хорошо разбираются в теории влечений. Но без специальной подготовки для работы с травмой аналитик оказывается в позиции человека, которому в руки дали молоток, и теперь ему везде мерещатся гвозди. Он начинает эти гвозди заколачивать, терапия превращается в какой-то ад. У меня при слове «анализ» до сих пор шерстка встает дыбом по всему позвоночнику и хочется немедленно кого-нибудь убить. Поэтому я всегда говорю: «терапия», «мой третий терапевт», «терапия травмы», потому что работа с травмой – это очень мало про «анализ» и очень много про «терапию».
В классическом психоанализе, который является, прежде всего, теорией (или, если угодно, мифологией) влечений, любые жизненные затруднения пациента рассматриваются как производная от его внутрипсихического конфликта. Соответственно, задача аналитика заключается в том, чтобы обнаружить эти скрытые внутренние конфликты, “вскрыть эти нарывы” (как формулировала это мой второй аналитик), довести их до сознания пациента и оздоровить его психическую жизнь.
Есть три классических ответа на травму: бежать, бороться или замереть.
Такой подход принципиально неприменим при работе с клиентом, пережившим травму. Если в терапию приходит мать, которая потеряла сына, или ребенок, потерявший родителя, такой пациент не страдает от внутрипсихических конфликтов. Возможно, они у него и есть. И даже наверняка. Но они имеют вторичное и даже третичное значение по отношению к тому, что с ним происходит здесь и сейчас.
В кабинете человеку, пережившему травму, не нужно ничего вскрывать. У него и так уже всё вскрыто, он приходит в кабинет, извините, мозгами наружу. Человек приходит вывернутым наизнанку и тут нужно работать с совершенно других теоретических позиций. В психоанализе они тоже есть. Не меняя кардинально парадигму или модальность работы, важно сделать некоторые поправки, внести методологические коррективы.
Перед таким пациентом не стоят вопросы: почему я страдаю? отчего мое страдание именно такое, а не иное? какие переживания раннего детства обусловили именно такие отношения между моими внутренними объектами? какие защитные механизмы должны быть переконфигурированы, чтобы я мог более адаптивно реагировать на внешние стимулы? Это аналитически правильные вопросы, но в терапии с человеком, который пережил или переживает травму, они абсолютно нерелевантны. Потому что главный вопрос в этой ситуации – как избавить человека от страданий здесь и сейчас, в кабинете аналитика. А что там было в детстве, и какие у него были отношения с мамой, папой, сиблингами и попугайчиком – важно, но это вопросы очень отдаленного терапевтического будущего.
Казалось бы, все, что я тут сейчас говорю, это – не бином Ньютона. Это – базовые, простые и очевидные вещи, азы. Мы работаем с живыми, тонкими и сложно устроенными людьми, а не строгаем Буратино из полена. Но жизнь – и мой личный опыт в частности – показывает, что эти аспекты и нюансы зачастую не вполне понятны практикующим специалистам. Моя третья терапия – это и работа с тем вредом, который был нанесен в первых двух «анализах». Поэтому у меня есть веская причина говорить об этом много, долго и подробно. Я невероятно рада, что у меня есть возможность вести вебинары на тему, которая оказалась важной для многих. Сейчас кто-то переживает травму непосредственно, кто-то травмируется, наблюдая за событиями в современном мире. Однако, это не меняет моей внутренней мотивации, потому что она очень личная.
Не исключаю, что можно быть хорошим специалистом по работе с травмой, не пережив лично никакой трагедии. Всякое бывает, и все возможно.
– И тогда ваши слова имеют вес и очень мощное основание?
– Да, есть такое выражение: «целитель должен быть изранен и излечен». Мне очень понятна и глубоко симпатична идея изначальной израненности терапевта. Я думаю, что в качестве специалистов мы особенно эффективно работаем именно с тем, что испытали на собственном опыте. И уж точно, убедительно рассказать другим мы можем как раз о том, что испытали сами.
Это, конечно, спорная идея и тут есть пространство для дискуссии. Может ли, например, быть хорошим детским психологом тот, у кого нет своих детей? Мне доводилось слышать разные ответы на этот вопрос. Вот у Анны Фрейд не было детей. Но, говорят, она была прекрасным детским психологом, её заслуги в данной области признаны. Не исключаю, что можно быть хорошим специалистом по работе с травмой, не пережив лично никакой трагедии. Всякое бывает, и все возможно.
Я не могу никому рекомендовать пойти и пережить травму, чтобы стать хорошим специалистом в этой области. Это было бы глупо. Просто в моем случае, я ничего не выбирала. Моя жизнь сложилась таким образом, что мне пришлось это испытать. Если жизнь даёт вам лимоны – делайте из них лимонад. А что еще остается?..
– Действительно, аналитики – не исключительные создания и могут быть травмированы. Есть такая точки зрения, что аналитик, переживающий травму, должен приостановить практику, проработать свою личную ситуацию, и только потом возвращаться к работе. Как вы отвечаете на этот вопрос?
– Мне кажется, здесь актуальна известная самолётная метафора: сначала надень маску на себя, потом на другого. Если аналитик не в ресурсе, он не может помогать. Но аналитиков отличает от клиентов то, что мы в силу профессии лучше представляем, как помочь себе: например, обратиться к своему терапевту, присоединиться к терапевтической группе, искать другие точки опоры. Принципиально важно в первую очередь помочь себе. Потому что в том числе и через это мы помогаем своим клиентам.
Для клиентов и анализантов важен опыт осознания того, что аналитик – живой человек. И с ним случается разное, с ним случается жизнь. Видеть, как аналитик справляется с травматичностью жизни, может быть терапевтично для клиента, если происходящее не разрушает аналитика.
Принципиально важно в первую очередь помочь себе. Потому что в том числе и через это мы помогаем своим клиентам.
– То есть травматический опыт можно сделать тем, что не уничтожает, а наоборот, способствует работе, делает понимание себя и жизни более глубоким?
– Если смотреть глубоко и несколько отстраненно, то любое сложное жизненное событие, любая травма – это всегда возможность. Да, это – ужас, страх, вина и боль. Но в отдаленной перспективе, это – своеобразная дверь, которую можно открыть и в которую можно войти.
Люди, пережившие травму, описывают свое состояние, как ощущение распада и развала, дезинтеграции, когда ткань мира, которая окружает нас, расползается на глазах, оборачиваясь огромной дырой во внутреннем мире. Эта дыра потихонечку заштопывается в терапии. Однако, ощущение, что дыра есть, всё равно никуда не денется. Ущерб, который наносит психике человека травмирующее событие, огромен и невосполним.
Люди, пережившие травму, описывают свое состояние, как ощущение распада и развала, дезинтеграции, когда ткань мира, которая окружает нас, расползается на глазах, оборачиваясь огромной дырой во внутреннем мире.
Он никак и никем не может быть компенсирован до конца. Травматическое событие никогда не может быть полностью пережито. Оно навсегда останется чем-то до конца неинтегрируемым в психику.
Те события, которые становятся базой травмы, всегда предельно бессмысленны и беспощадны. Травматическое событие обладает огромным разрушительным потенциалом именно потому, что оно яростно атакует все индивидуальные смыслы. Травма – это всегда острый кризис индивидуальных смыслов.
Работа с травмой в терапии в очень большой степени заключается в присваивании и творческом приписывании смысла тому ужасу, который произошёл. Как у Пушкина в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы»: Я понять тебя хочу / Смысла я в тебе ищу. Терапия травмы – это осмысление, изнурительное намывание мельчайших зёрен, крупиц субъективного смысла в огромном количестве песка хаоса и энтропии.
В конце концов, всё будет зависеть только от того, верите вы, в то, что там есть дверь или нет. Это ключевой принципиальный вопрос осмысления. Насколько это окажется возможным для каждого конкретного человека и каким образом, покажет его личная терапия. Но, при благоприятном развитии событий, рваная рана с плохо определяемыми контурами, своеобразная чёрная дыра, неконтролируемо всасывающая в себя бытие, превращается в дверь, в которую можно войти. Или не входить, если человек не хочет. Он теперь сам может решать: входить ему или нет, потому что он становится хозяином положения.
Работа с травмой в терапии в очень большой степени заключается в присваивании и творческом приписывании смысла тому ужасу, который произошёл.
– Принято разделять травму острую и травму, произошедшую некоторое время назад. Сложность в том, что травма, случившаяся в прошлом, может быть той самой черной дырой и оставаться острым состоянием. Важно ли дифференцировать, определять состояние человека относительно его травмы?
– Да, конечно, ведь травма – это не само по себе травмирующее событие, это – реакция психики данного конкретного человека на травмирующее событие. И мы работаем с этой реакцией. Есть универсальные травмирующие события: военные действия, насилие (эмоциональное, физическое, сексуальное), природные катаклизмы, потеря близкого, особенно внезапная. Но есть и масса неочевидных событий, которые тоже могут быть причиной психической травмы такой же степени интенсивности. Человек может с велосипеда упасть, и это падение для этого конкретного человека будет самой настоящей психической травмой. Травма всегда предельно субъективна.
– Сталкивались ли вы с тем, что клиент отрицает у себя травму?
– Да, конечно. И это его право. Я свято верю в то, что в терапии можно работать только с тем, с чем человек хочет и готов работать. Есть такое выражение: «можно привести лошадь к водопою, но невозможно заставить её пить». По-моему, если мы пытаемся убедить человека, отрицающего собственную травму, что она у него есть и что ему с этим нужно непременно работать, это похоже на то, что мы привели лошадь к водопою и заставляем ее плавать на спине. Терапевт, конечно, способствует изменениям и трансформациям, но насильно терапевтировать и излечить от травмы никого нельзя.
– Разные события для разных людей могут быть травмирующими. Может ли это быть по-разному для клиента и его окружения, его семьи. Могут ли родители, например, не придавать значения травме ребенка?
– Питер Левин, специалист по работе с травмой в телесно-ориентированном подходе, приводит такой пример. Летом 1976 года 26 детей в возрасте от 5 до 15 лет были похищены из школьного автобуса в маленьком калифорнийском городке. Похитители отвезли их в заброшенную каменоломню и посадили в подземную камеру. Дети просидели под землей в общей сложности 30 часов. В какой-то момент один из мальчиков случайно оперся спиной о деревянный столб, поддерживавший крышу импровизированной подземной камеры. Подпорка рухнула, и потолок начал оседать прямо на детей. К тому времени, когда потолок начал обрушиваться, большинство детей уже практически не могли двигаться: они были парализованы шоком, страхом, оцепенением и апатией. Активно отреагировал на ситуацию только один мальчик по имени Боб Баркли. Он мобилизовал своего друга, и они вместе начали рыть проход наверх. Со временем им удалось прокопать небольшой тоннель и вывести по нему всех детей из камеры наверх, в каменоломню. Когда детей спасли, то после оказания первой медицинской помощи их просто отправили по домам. Никто из детей не получил никакой психологической помощи. Но через 8 месяцев ими заинтересовался психиатр Ленор Тэрр, проводивший одно из первых исследований поведения детей, переживших травму. Обследовав всех бывших заложников, Тэрр обнаружил, что 25 из 26 детей страдают ярко выраженными симптомами ПТСР: ночными кошмарами, тенденцией к насилию, нарушенной способностью нормально действовать в личных и социальных отношениях. Единственным, у кого не было обнаружено ни одного симптома посттравматического стрессового расстройства, был Боб Баркли, мальчик, который в критический момент сохранил способность активно реагировать на кризисную ситуацию и продемонстрировал активную реакцию на внешний вызов. Травма – это всегда глубоко индивидуальный ответ человеческой психики на внешние обстоятельства.
Травма – это не само по себе травмирующее событие, это реакция психики данного конкретного человека на травмирующее событие.
Есть три классических ответа на травму: бежать, бороться или замереть. Травма – это всегда гиперстимуляция нервной системы. Если вы боретесь или убегаете, то вы расходуете ту энергию, которая возникает в организме в результате травматической гиперстимуляции. Если вы разряжаете это возбуждение в действии борьбы или бегства, то шансы, что впоследствии у вас разовьются какие-то симптомы посттравматического стрессового расстройства, значительно снижаются. Если же вы замираете, как муха в янтаре, ничего не делаете, никак не разряжаете напряжение и аффект, то вы оказываетесь в зоне риска.
Если окружение, например родители, отрицают переживания ребенка, то они учат его диссоциироваться, отрезать куски реальности. Скорее всего, это приведёт к тому, что во взрослой жизни этот ребёнок будет использовать диссоциацию (или какие-то другие примитивные защиты) в качестве ведущего защитного механизма.
– Гуманитарные катастрофы, глобальные катаклизмы заставляют множество людей ощущать себя травмированными. Это не всегда признается, однако, как можно себе помочь?
– Я думаю, любой взрослый человек сам несет ответственность за своё психическое благополучие. Не стоит надеяться, что прилетит волшебник в голубом вертолёте и сделает нам хорошо. Не прилетит. Всю внутреннюю работу (например, по кризисному самооживлению) придется выполнять самостоятельно.
Универсальный рецепт терапии травмы – это символизация. Например, я говорю о травме на вебинарах, потому что это – эффективная и полезная часть моей личной терапии травмы. Можно использовать любые способы: рисовать, если нравится рисовать, фотографировать, лепить, танцевать, писать. Важно вынимать это из себя, канализировать вовне, разряжать аффект в слове или любой другой доступной знаковой системе.
Я свято верю в то, что в терапии можно работать только с тем, с чем человек хочет и готов работать.
Если нет возможности идти в терапию, то есть смысл работать со своими переживаниями самостоятельно, выходить из состояния замороженности. Травма разрушает наши психические защиты. Но разрушая их, она также подрывает и одну из базовых психических функций – способность к символизации. Терапия – это превращение того, о чем нельзя говорить и того, на что невозможно смотреть, в то, на что можно смотреть и в то, о чём можно и нужно говорить.
– Русская семиотическая традиция – еще одна сторона ваших интересов. Семиотика, как наука о знаках и знаковых системах, каким-то образом позволяет иначе, возможно, шире взглянуть на травму?
– В этом году исполняется 100 лет со дня рождения самого, пожалуй, известного русского семиотика – Юрия Михайловича Лотмана. Лотман много лет руководил кафедрой русской литературы Тартуского университета. Он создал всемирно известную тартуско-московскую семиотическую школу, сформулировал основные теоретические положения исследования смыслопорождающих и антиэнтропийных механизмов культуры и семиосферы. По своему первому образованию я русский филолог, и мои первые два диплома как раз из Тартуского университета. Кроме того, в кабинете на стене у меня висит очень красивый сертификат первого получателя стипендии имени Ю.М. Лотмана 2002 года. Поэтому, когда весной организаторы вебинаров предложили мне подумать о расширении тематики, я поняла, что не могу пройти мимо этой знаменательной даты. В мае этого года я начала вести второй цикл вебинаров «Осторожно – семиотика!».
Как и с циклом по травме, в случае с семиотикой у меня тоже есть скрытые личные мотивы. Я проучилась в Тарту 7 лет. Это 3были очень важные годы, во многом сформировавшие не только мое академическое, но и глубоко личное, жизненное мировоззрение. Есть такой палиндром: “Тарту дорог как город утрат”. Курс по семиотике, который я сейчас начала читать, это – мой способ разобраться в этих утратах, переопределить и заново выстроить свои отношения с alma mater, с традицией, к которой я, несомненно, принадлежу, но от которой в то же время всю жизнь стремлюсь дистанцироваться. Теперь пришло время начать сближаться.
Сама по себе семиотика не дает нам инструментария для непосредственной работы с травмой в терапии. Однако семиотические штудии формируют определенную интеллектуальную рамку, в которую психоанализ и терапия травмы оказываются органически вписаны в качестве элементов, составляющих гармоничную общую картину.
Меня очень занимает идея связи семиотики и психоанализа, того, как мы можем взаимно расширить и углубить свое понимание одного при помощи другого. Тут очень много вопросов, и исчерпывающих ответов на них нет ни в одном учебнике. По семиотике вообще нет учебников! Поэтому на всех своих вебинарах – как по травме, так и по семиотике – я всегда оставляю последние полчаса для дискуссии и коллегиального обсуждения.
Ю.М. Лотман пишет о том, что культура – это информационный генератор. Так вот, чтобы этот генератор исправно работал, нам принципиально необходим Другой. Только через игру и самое разноплановое взаимодействие с ним мы получаем возможность формировать поле смыслопорождающего напряжения и возрастания информации. Все смыслы рождаются только в диалоге. Поэтому, Анастасия, спасибо большое, что в ходе интервью вы сформировали со мной эту базовую семиотическую модель “Я – Другой” и поспособствовали тому, чтобы важные вещи были сказаны, а смыслы порождены. Спасибо!
Беседовала А. Холобесова