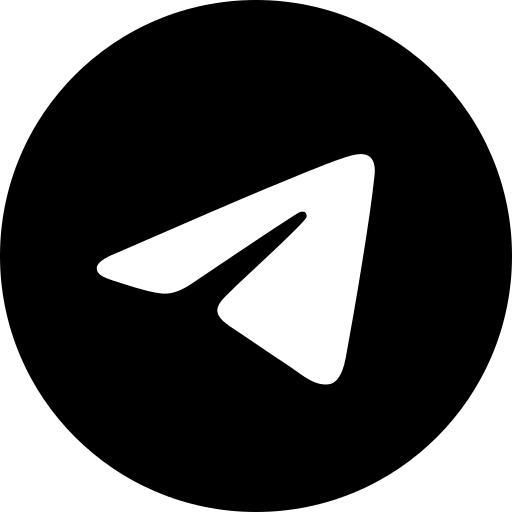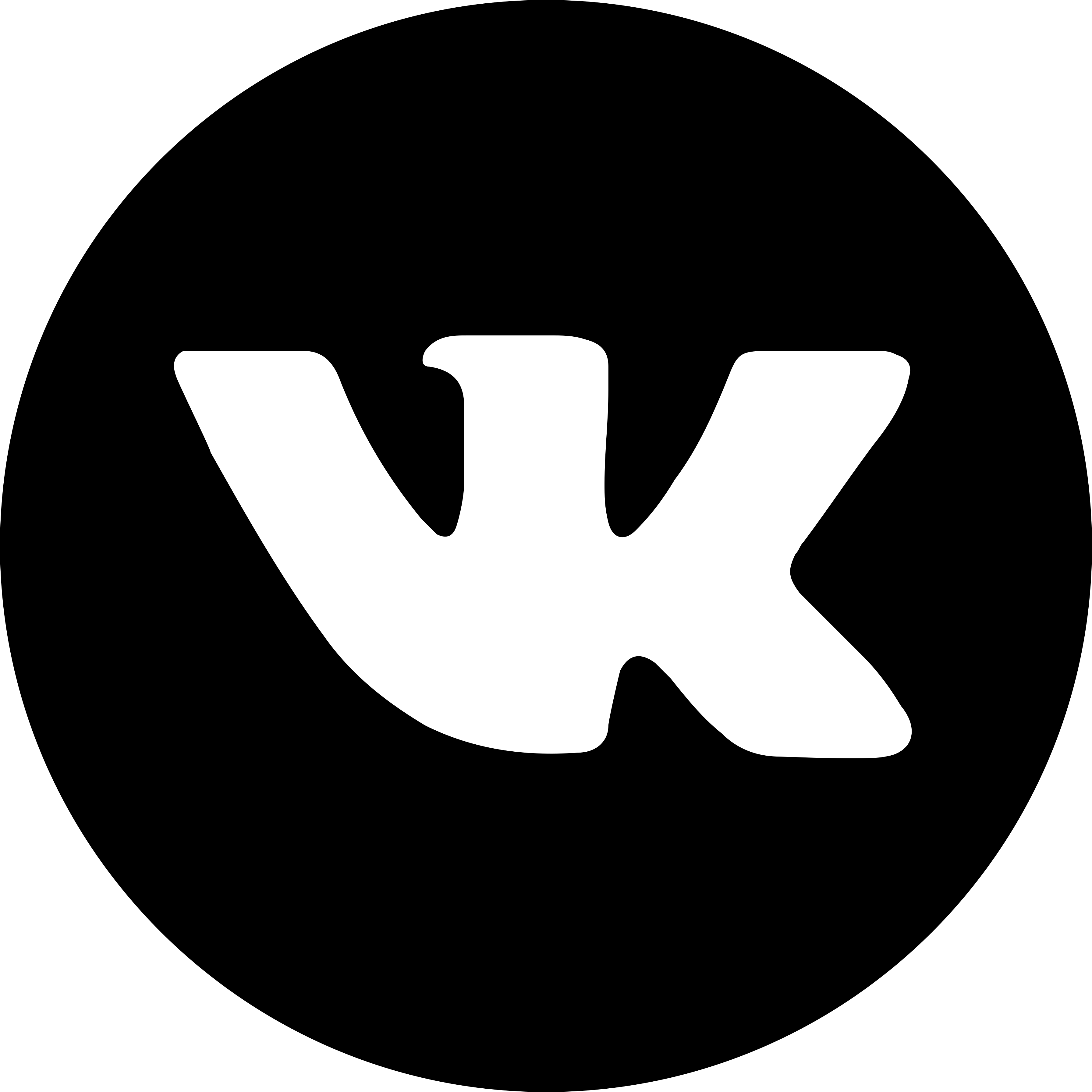- Клинический психолог, психотерапевт, психоаналитик
- Тренинг-аналитик и супервизор ЕАРПП (Россия, РО-Екатеринбург) и ECPP (Vienna, Austria)
- Научный редактор журнала «Пространство психоанализа и психотерапии»
- Член Правления ЕАРПП
- Член Российского Психологического Общества (РПО)
- Старший преподаватель кафедры клинической психологии и психофизиологии Уральского Федерального Университета
- Член Международного института психотерапии (IPI)

- Клинический психолог, психотерапевт, психоаналитик
- Тренинг-аналитик и супервизор ЕАРПП (Россия, РО-Екатеринбург) и ECPP (Vienna, Austria)
- Научный редактор журнала «Пространство психоанализа и психотерапии»
- Член Правления ЕАРПП
- Член Российского Психологического Общества (РПО)
- Старший преподаватель кафедры клинической психологии и психофизиологии Уральского Федерального Университета
- Член Международного института психотерапии (IPI)
Прежде чем перейти к ключевым соображениям о природе и роли родительской пары в формировании бессознательных фантазий и ввести такое понятие как «эдипов объект», я хочу уделить внимание фантазии как понятию.
Вслед за Кляйн я полагаю, что фантазии составляют центральную особенность нашей ментальной жизни, и неплохо бы понять, что это такое. До сих пор подходы к этому понятию очень разнятся. Именно понятию, а не феномену. Недавно мне попалась одна достаточно свежая дискуссия на тему «Фантазии как основа ментальной жизни в психоаналитической интерпретации» – несколько лет назад она была опубликована в Международном журнале психоанализа, (Бласс, 2016; Blass, 2017; Weiss, 2017). И я совершенно согласен с этой формулировкой. Буквальные разногласия заключаются в том, что, с одной стороны, кляйнианцы говорят о фантазийной жизни, что в психике есть какие-то структурированные фантазии, и мы их раскрываем из бессознательного. А субъективисты, с другой стороны, говорят, что бессознательное возникает спонтанно в прямом взаимодействии, и мы не можем вытащить из него какую-то структуру. И по этому поводу дебаты все еще идут. Меня это немножко удивляет, поэтому я напомню тот подход, которым я руководствуюсь в рассмотрении бессознательной фантазии. При том, что сама Кляйн никогда не определяла, что это такое, зато активно пользовалась. Может быть, именно поэтому возникают разнообразные взгляды.
С моей точки зрения, когда мы говорим о фантазии, мы действительно используем особый язык. Но язык не как некую лингвистическую структуру. Это очень ограниченное видение, даже если принимать в расчет то, что пользуемся мы им и на невербальном уровне. Те, кто пытается с этой точки зрения смотреть на происходящее в психике, очень сильно обедняют процесс, а главное, просто реально мешают себе жить. Такое упрощение привлекательно для ума, потому что то, что структурируется, упорядочивается становится понятным и есть на что опереться. Но такой подход на деле оказывается не очень жизнеспособным. Я говорю о языке в более широком смысле. Можно предположить на уровне догадки, почти мифологической, что у нас есть какие-то переживания и как-то они устроены. Так вот переживать как будто бы мы их можем, а вот поделиться ими – нет из-за ограничения возможностей речи. И для того, чтобы взаимодействовать образовательно-развивающим или терапевтическим образом, нам нужно какое-то специфическое взаимодействие или даже коммуникация. И когда мы говорим о фантазиях, пользуясь остроумным понятием Кляйн, мы как раз создаем в себе некое представление, как-то организуем наше восприятие мира, себя, и того, что происходит с другим человеком. Неизвестно, насколько это восприятие соответствует восприятию другого человека. Но мы и не сможем это никогда проверить, нет у нас таких возможностей. Пока телепатия не настолько развита, если она условно вообще когда-нибудь сможет заработать...
Я полагаю, что фантазии составляют центральную особенность нашей ментальной жизни.
Соответственно, мы сами порождаем некую конфигурацию опыта, которую и выражаем. Делаем это не только словами, а иногда и своим состоянием, своим настроением, своей целенаправленностью. Можно много что тут перечислять. Но эта конфигурация, по сути, тоже является переживанием. Нашим переживанием. И тут язык, как лингвистическая конструкция, помогает нам эту конфигурацию как-то поддерживать. В первую очередь в себе. Вообще неизвестно, насколько она соответствует действительности, но мы исходим из прагматичных соображений и опираемся на нее, потому что это работает. Когда при взаимодействии с другим человеком мы говорим о его фантазиях, то используем определенные формулировки, и это наш язык, это наш способ выражения. И срабатывает он не потому, что мы раскрыли тайную структуру психики другого и можем ему все выложить, а потому что мы как-то резонируем с этим содержанием. Но опять же, мы исходим из того, что нам нужно достичь каких-то целей, мы не просто так болтаем с человеком, практически никогда так не происходит. И, соответственно, нам не на что опираться, кроме как на эффективность в отношении этих целей (например, терапевтических). Но и этого, в принципе, достаточно. Понятно, что из-за того, что нам хочется определенности, мы убеждаем себя, что наши соображения имеют какую-то объективную ценность, что-то раскрывают, говорят о каком-то понимании другого. Но если мы не будем сильно цепляться за это придумывание, а затем оправдание этой бессознательной структуры, то будем просто делать свое дело и фантазировать в ответ на фантазии клиента.
Когда мы говорим о фантазии, мы действительно используем особый язык. Но язык не как некую лингвистическую структуру.
Тут проявляется и субъективность, и структурированность, о которой мы все равно не знаем, но которую придумываем и на это опираемся, насколько бы нереалистичной или эфемерной она ни была. Нет у нас все равно никакой проверки реальности фантазий. Но отсюда вытекает и сам подход к такому действию, который может быть более-менее эффективен. Получается, что фантазия – это во многом миф в психике, некий способ структурирования всего, который нужен, чтобы не пропасть в тревоге, не чувствовать неопределенность, в которой нам плохо. Потребность в определенности является базовой особенностью человеческой психики. Миф — это структура, которая сидит внутри, упорядоченная система смыслов. Мы же, действительно, в рамках психического существования оторваны от реальности, у нас нет с ней контакта. Если бы у нас он был, мы бы работали по принципу стимула-реакции, как это описывали бихевиористы. Но вместо этого человек занимается смыслообразованием. И поскольку в рамках психических процессов мы не опираемся на реальность, то нам нужно что-то взамен, в качестве опоры, для спокойного существования. Практически, мы живем в виртуальной реальности нашей психики. И заменяем мифом опору на реальность. Есть внутренняя опора, мы ее используем, но она виртуальна.
Мы сами порождаем некую конфигурацию опыта, которую и выражаем. Делаем это не только словами, а иногда и своим состоянием, своим настроением, своей целенаправленностью. Эта конфигурация, по сути, тоже является переживанием. Язык, как лингвистическая конструкция, помогает нам эту конфигурацию как-то поддерживать.
И когда мы говорим о внутреннем мире, о фантазиях, эффективно пользоваться мифологической логикой, а не научной логикой. Мы говорим, скорее, о мифологических закономерностях. Это происходит на уровне психических процессов. С этим часто бывают проблемы из-за очевидного культурного влияния, нацеленности на «естественнонаучность», начиная с эпохи Просвещения с начала XVIII века. В мифологической логике важна практичность, целенаправленность, когда мы действуем в соответствии с определенными целями. А в научной логике мы как бы пытаемся опираться на какую-то универсальную согласованность, конструкцию, независимую от целеполагания. С точки зрения мифологической логики универсальной согласованности нет. В научной же должна быть какая-то обоснованность, объективность. Естественные науки пытаются очень сильно эти обоснования найти. А в мифологической логике нам это даже не интересно.
Когда при взаимодействии с другим человеком мы говорим о его фантазиях, то используем определенные формулировки, и это наш язык, это наш способ выражения.
Зато в мифологической логике огромное значение имеет эстетика. Внутренний мир и фантазии согласованы по правилам эстетических данных. Желательно, чтобы фантазия была как можно более краткой, согласованной, выразительной, изящной, как хорошая конспирологическая теория. Да, мы придумываем какое-то объяснение миру и всем неувязкам, которые в нем случаются, и у нас складывается какая-то картина. Кстати, именно кляйнианцы проявляли и проявляют недюжинный интерес к эстетике и исследованиям эстетических чувств. Почему этот критерий важен? Потому что он касается наших интерпретаций в широком смысле. Я напомню, что методологически для удобства мы можем разделить интерпретацию на ту, которая направлена на другого человека, на клиента, и ту, которую мы делаем для себя. На самом деле – это две стороны одной медали. Работает и то, и другое. Причем, я бы сказал, что интерпретация собственная, для настройки собственного мифа, для стимуляции собственной фантазии – она важнее. Поэтому иногда в конкретной психоаналитической работе важно не то, что вы говорите, а то, как вы себя чувствуете, как вы себя собрали, как вы настроили эту внутреннюю конфигурацию. Иногда достаточно найти этот правильный пазл, из которого собирается картинка, и это меняет всю ситуацию. То есть, интерпретацию мы формулируем, в первую очередь, для себя, для собственной настройки (на клиента) и кляйнианский язык фантазий здесь очень эффективен.
Будем просто делать свое дело и фантазировать в ответ на фантазии клиента.
В этом плане можно не менее искусственно, чем все предыдущие разделения, провести различие между фантазией и метафорой. Метафора – это что-то более интеллектуальное, более понимаемое. Фантазия у нас обычно более психосоматически укорененная, можно сказать, что это близко к реальности, но мы же про реальность ничего не знаем. Разве только, что это то, что человеком переживается. Метафору можно выдумывать. У фантазии может быть какая-то структурная, интеллектуальная сторона, но в основном речь идет о переживании. Поэтому если мы действительно имеем дело с бессознательной фантазией, если мы попадаем в нее, то это, скорее, дает эффект трансформации, а не просто какого-то понимания. Мне кажется, как раз хорошая психоаналитическая интерпретация всегда касается именно такой фантазии. А вот то, что в классическом анализе и в работах многих аналитиков говорится о необходимости иногда длительного процесса проработки какого-то инсайта, часто связано с тем, что инсайты касаются более интеллектуальных вещей, поэтому они за живое не трогают. Если вы хорошо проинтерпретировали, попали в фантазию и срезонировали с чувствами, смыслами и тем, что невербально вообще неуловимо, непонятно, то никакой проработки, как правило, не потребуется. Возникает трансформация и все меняется, начинает выстраиваться по-другому. Конечно, бывает сложно дать хорошую интерпретацию. Фантазия может вообще не выражаться в каких-то смыслах, а просто переживаться. В метафоре мы уже говорим что-то определенное, можем сказать, например: у нее щеки, как розы. И это не является особым переживанием, это будет неким сравнением. А фантазия – это когда мы говорим о злобной груди, от которой шарахается младенец, это уже переживание. Поэтому, на самом деле, найти, срезонировать и сформулировать в чем-то хорошую фантазию бывает сложно, гораздо сложнее, чем метафору. В метафоре можно действительно использовать какие-то сравнения, а в фантазии мы должны попасть в переживание. Если мы хорошо попали, это уже удачная конструкция.
Фантазия – это во многом миф в психике, некий способ структурирования всего, который нужен, чтобы не пропасть в тревоге, не чувствовать неопределенность, в которой нам плохо. Потребность в определенности является базовой особенностью человеческой психики.
Итак, фантазия связана с ощущением внутренней правды, даже если мы от нее сначала откажемся или еще как-нибудь отреагируем, она будет резонировать, а метафора – она более умозрительна в каком-то смысле. Хорошие, более-менее универсально задевающие фантазии привлекательны и способны на культурный захват, они позволяют внедриться в культуру и буквально ее структурировать, как, например, до определенной степени произошло с психоанализом Фрейда. Но в то же время это создает и проблемы, ведь трудно бывает пересмотреть уже укорененные фантазии-метафоры, которые переходят или перешли в культуру. Даже если у нас появляется какой-то более удачный вариант, мы его иногда избегаем, потому что нас сносит уже на известную, структурированную какую-то почву. И у нас возникают трудности контакта с примитивными фантазиями, которые, действительно, относятся к менее символическим процессам, к тем, которые даже Кляйн относила к младенческим. Ее все время ругали: что же это такие сложные младенцы-то у вас, миссис Кляйн. Хотя сейчас понятно уже, что она их даже недооценивала. Но тем не менее. Зачастую именно потому, что эта примитивная фантазия не очень-то логична и формируется еще до того, как мы отращиваем нечто, что можно называть разумом, разумностью, логичностью и так далее. А мы очень сильно опираемся на верхний символический уровень и интеллект нам мешает контактировать с более примитивным. Горе от ума, как известно. И это непосредственно относится к тому, о чем я попытаюсь сказать далее.
Практически мы живем в виртуальной реальности нашей психики. И заменяем мифом опору на реальность.
Еще я иногда могу говорить о многослойности фантазий. Но надо понимать, что это тоже фикция. Ранее мы указали, что то, чего мы пытаемся коснуться в наших фантазийных интерпретациях, это - некая единая конструкция всех переживаний и смыслов. Насколько она интегрированная, не так уж важно. А когда мы говорим, что она многослойна и может включать в себя разные уровни развития, то это тоже искусственная интерпретация, в рамках которой мы единую фантазию распиливаем на определенные слои, структурируем и относим к разным стадиям (оральной, анальной, фаллической и т.д.). Нам так проще воспринимать. Мы помним, что в своей коммуникации мы структурируем мир.
Когда мы говорим о внутреннем мире, о фантазиях, эффективно пользоваться мифологической логикой, а не научной логикой.
Далее я хочу поговорить о фантазии, которая, как мне кажется, не до конца оценена и, может быть, не до конца структурирована в нашем психическом существовании. Вот и попытаемся это проделать. Это фантазия о родительской паре.
В разных психоаналитических подходах, как что-то само собой разумеющееся, есть два укоренившихся мнения. Первое, что у нас есть доэдипов и эдипов периоды развития. Доэдипов период характеризуется диадными отношениями (я и другой), а эдипов – триадными (я, папа, мама) с возможностью символизации, наблюдающей позиции и т.д. В чем здесь проблема? Такой подход, на самом деле, противоречит всей нашей психоаналитической идеологии, потому что получается, что триадность вдруг в какой-то момент берется из ниоткуда. Не было ее до трех лет, а потом как-то возникла. Мы ведь всегда полагаем, что у всего есть предшественники, есть какой-то предшествующий опыт. А тут получается – нет. Непорядок, как минимум. И это ведь не только теоретический непорядок, такой взгляд не соответствует нашим клиническим наблюдениям. К сожалению, терапевты и психоаналитики часто свои наблюдения пытаются втиснуть в теоретическую парадигму, и ограничиться ею. Поэтому, попробуем эту теоретическую парадигму немножко доработать.
Интерпретацию мы формулируем, в первую очередь, для себя, для собственной настройки (на клиента) и кляйнианский язык фантазий здесь очень эффективен.
Второе мнение касается гендерных особенностей и различий. Фрейд решал этот вопрос просто – есть мужчины и есть недомужчины, т.е. женщины. По Фрейду, женщина – это мужчина без пениса. Остальные рассуждения уже являются следствием этого. Кляйн в некотором роде переехала на другую сторону, и в ее парадигме отец – это уже придаток к матери в каком-то смысле, он вторичен по отношению к ней. Это тоже вариант. Но есть другой подход, который антропологами высказывался чаще, чем психоаналитиками, но вполне себе понятный и разумный. Что, собственно, у нас не бывает одного без другого. Мужчины без женщины. Мы не можем отдельно их рассмотреть, они определяют друг друга, потому что мужчина – это как раз не женщина, а женщина – не мужчина. Они составляют некое единое целое, даже если порождают на свой счет кучу фантазий о собственной самостоятельности, отдельности существования и т.п. Это неправда, поскольку само понятие гендера, пола укоренено в этой двойственности. Поэтому предлагаю не порождать какие-то дикие модели, связанные с раздельностью полов, а смотреть на это как на две стороны одной медали. Стороны разные, а явление одно.
Начнем с того, что существуют многочисленные попытки зафиксировать ранние формы эдипа[1]. Их огромное количество, включая даже прямое наблюдение. Не только какие-то фазы психической реальности, а модели развития и прочее. Я не буду здесь их рассматривать, это отдельная интересная тема, достаточно просто констатировать их многообразие.
К поиску зачатков эдипа в истории развития индивида, мне кажется, нужно добавить еще явление переходности Винникотта и концепцию контейнируемого объекта, но в отношении родительской пары по Кляйн. Именно пары как объекта (Frisch, Frisch-Desmarez, 2010). Мы очень часто воспринимаем пару как совокупность двух объектов, потому что интеллект на нас давит, мы знаем, что пара – это два. Но с точки зрения развития всей системы для того же младенца это изначально не так уж очевидно. В данном случае родительская пара – это внутренний переходный объект. Он как раз позволяет заполнить зону между диадностью и триадностью. И мы действительно можем описать такой объект, который является развивающимся, когда то, с чем мы взаимодействуем, представляет собой пару. Для ребенка сначала это неочевидно. Но зародыш пары есть в любых отношениях. Изначально это диада я и объект, но сам объект потом начинает постепенно поляризоваться и у него появляются разные стороны. К моменту эдиповой ситуации возникает уже возможность выйти на уровень разделения единого объекта на два различных. Но оно возникает не внезапно, а присутствует всегда. И на каждой стадии у нас есть определенный уровень развития такого объекта. Он может быть и оральный, и анальный, и фаллический.
Если мы действительно имеем дело с бессознательной фантазией, если мы попадаем в нее, то это, скорее, дает эффект трансформации, а не просто какого-то понимания.
Это хитрый объект, он вроде бы единый, но что-то с ним не то в отличие от отдельных отношений с мамой или с папой. И по мере развития этого внутреннего объекта, он становится разделенным. Напомню, это фантазия, она совершенно даже не обязательно должна как-то продуцироваться реальными мамой с папой. Даже если кого-то фактически в паре нет, триадность все равно возникает. Потому что возникает само ощущение, что кого-то нет, что мама одна. Но она все равно взаимодействует с чем-то, с кем-то, что ребенок обнаруживает. Есть даже идея как ребенок, нуждаясь в триадности, буквально заставляет объекты, в том числе материнский объект, порождать эту триадность. Причем буквально с рождения. Дана Биркстед-Брин увязывает материнский и отцовский объекты в единую структуру, предлагая концепцию «пениса-как-связи», что снижает поляризацию внутренних процессов (Birksted-Breen, 1996). Но это все еще противопоставленные, хотя и связанные объекты, т.е. триадная ситуация.
Я бы даже предложил сформулировать такое понятие, как эдипов объект. Когда мы говорим о едином объекте, понимаем, что он в то же время двойственный и тем самым порождает триаду. Там есть сначала зачаточное взаимодействие внутри, затем по мере развития оно становится более развернутым. Как раз взаимодействие с таким развивающимся объектом позволяет перейти от диады к триаде. Такой внутренний родительский объект функционально — это объект потенциала развития. Если его освоение происходит адекватно, он обеспечивает возможность переходить на следующую стадию развития. Слишком раннее обнаружение триадности может обернуться травматическим опытом (Abelin, 1975).
У Фрейда ребенок совершает эдипов переход в 3-5 лет. Тут мы имеем дело уже с символическим проявлением, когда можно про это говорить, собственно, так оно и обнаруживается. Но есть большое количество ситуаций, когда ребенок говорить не может, а переживать уже переживает. Тем более, что суть Эдипа тоже развивалась. Большую роль в восприятии именно пары играет первосцена. Но Фрейд, описав ее в случае Человека-Волка, не использовал ее практически в рамках эдипова комплекса. Возможно потому, что там она относится к полутора годам. Хотя понятно, чтобы воспринять происходящее с родителями в сексуальном акте, нужно воспринять их взаимодействие, т.е. их там пара по определению. И такое восприятие уже должно быть в самой первосцене. В случае Человека-Волка речь идет о том, что он воспринимает эту первичную сцену сексуального акта родителей как насилие. Это соединяется с его садистическими импульсами и так далее (Фрейд, 2007).
В метафоре можно действительно использовать какие-то сравнения, а в фантазии мы должны попасть в переживание.
Кляйн очень хорошо восприняла именно ранние работы Фрейда. Но иначе рассмотрела ситуацию с первосценой. В случае с девочкой Эрной, шести лет, которую она анализировала в начале 20-х, обнаружив в материале первосцену, она сначала описала ее по-фрейдистски, а через пару лет переформулировала в собственном ключе. Кляйн описала в фантазийном виде, не буквально, наблюдение за родителями в сексуальном акте как удовлетворяющими друг друга орально, и это понятно в связи с младенчеством. Родители как бы кормят друг друга чем-то таким, чего не дают ребенку. С ее точки зрения, половой акт стал актом удовлетворения, из которого ребенок исключен. Вот суть эдиповой конфигурации, в которой ребенок воспринимает свою исключенность из отношений с чувствами потери и брошенности, а не злобностью какой-то агрессивной. Но, правда, это вызывает зависть, и это все-таки уже агрессивное чувство. Отсюда возникают ранние характеристики эдиповой конфигурации у Кляйн (Klein, 1932).
Хорошие, более-менее универсально задевающие фантазии привлекательны и способны на культурный захват, они позволяют внедриться в культуру и буквально ее структурировать.
Теперь мы можем представить, что с введения такой точки зрения о паре как объекте, эдипова конфигурация может быть обнаружена на каждой стадии. Про ранний оральный эдип, описанный Кляйн, мы можем найти много работ. Про фаллический фрейдовский вариант эдипа еще больше материала. Можно предположить, что анальный эдип у нас тоже есть, хотя определений его очень мало. Это не случайно. Удовольствие (сексуальное в своей основе, как описывал Фрейд) возникает в процессе взаимодействия. Удовлетворение в оральной фазе вполне себе взаимно. Есть интеракция, когда ребенок сосет грудь, т.е. грудь и ребенок – их двое. Когда у нас есть фаллическая стадия – есть фаллос, есть вагина – тоже двое, тоже взаимодействие. А анальная фаза у нас – как будто сама для себя, т.е. непосредственное удовольствие получается от процесса производства экскрементов. И поэтому здесь сложнее наблюдать взаимодействие. Хотя, конечно, здесь можно вспомнить тот самый фекальный мир, который чаще всего исследовали французы, когда отцовский пенис воспринимается как фекальный подарок матери (Chasseguet-Smirgel, 1984). Мы помним, что фекалии – это подарки в детском мире, и здесь тоже есть взаимодействие. В общем, тут тоже эдиповы смыслы можно найти, хотя, может быть, менее прямо, чем в других случаях. Так же можно говорить о латентном и генитальном эдипе. Когда мы говорим о разрешении эдипа в латентной фазе – это не разрешение, это его вытеснение. Шанс на разрешение эдип получает в подростковом возрасте.
Терапевты и психоаналитики часто свои наблюдения пытаются втиснуть в теоретическую парадигму и ограничиться ею.
Когда мы сталкиваемся с доэдиповыми (оральными, анальными) смыслами и процессами в проявлениях эдипова комплекса, классический подход рассматривает их как результат регрессивного смешения, вторжения более ранних стадий (см., например, Fenichel, 1931). Таким образом, если мы расширим понятие эдиповости до появления родительской пары на любой фазе, то мы не будем здесь видеть регрессию, мы будем видеть просто проявление различных уровней эдипового конфликта. Все это нам на самом деле облегчает жизнь.
Здесь как раз можно вспомнить о многослойности эдипа, когда эдипова конфигурация раскрывается на разных уровнях. Для облегчения понимания мы ее делим на те или иные аспекты. Т.е. есть оральные аспекты эдипа, есть анальные, фаллические, латентные, разные другие. И не надо беспокоится о вторжении других стадий. Как «распилим» единую фантазию, так и будет. Как, например, встречающееся в литературе разделение аспектов внутренней родительской пары на параноидно-шизоидной позиции и на депрессивной позиции. Тем более, что у нас есть еще и разные аспекты восприятия пары, которые где-то отражаются. Есть такое восприятие, которое необходимо для хорошего, нормального душевного развития, когда родители воспринимаются как пара по отношению к ребенку, т.е. они вместе, но про него, для него. В общем-то, если родители как-то подходят под эту фантазию, иногда хотя бы соответствующе себя ведут – радуются ребенку, да еще и вместе, это укрепляет хороший эдипов объект. Даже если родитель один, он внутри содержит какой-то третий аспект, например, социальные отношения. А другой вариант, депрессивный и реалистичный – родители вместе без ребенка.
Не бывает одного без другого. Мужчины без женщины. Мы не можем отдельно их рассмотреть, они определяют друг друга, потому что мужчина – это как раз не женщина, а женщина – не мужчина. Они составляют некое единое целое.
Если мы вспомним бионовские базовые допущения в регрессировавшей группе, у нас есть зависимость, есть борьба-бегство, есть допущение парности – некая пара должна спасти группу, породив нечто спасительное (идею, мессию и т.п.), или парные отношения сами окажутся спасительными (Bion. 1961). Выстраивается такое соответствие: зависимость – это про оральность, бегство – про анальность, а парность – это про генитальность, которое воспринимается как более зрелое и развитое. Кажется, что это такой более продвинутый порядок. Но на самом-то деле мы понимаем, что все базовые допущения – психотические, процессы там очень примитивные, однако весьма распространенные. С нашей точки зрения, базовое допущение парности – это групповой отзвук внутренней пары. И поскольку это очень универсальное явление, можно понять, что у нас это представление о внутренней родительской паре очень прочно и глубоко сидит. Это не что-то случайное, это база нашего мировосприятия.
Предлагаю не порождать какие-то дикие модели, связанные с раздельностью полов, а смотреть на это как на две стороны одной медали. Стороны разные, а явление одно.
Чтобы немножко еще подобраться к некоторым аспектам аналитической работы, давайте вспомним на что еще опирался Фрейд. Можно заметить, что в классическом мифе у Эдипа две родительские пары (Lupinacci, 1998; Quinodoz, 1999, 2015). И это не просто какая-то отвлеченная мифологическая конструкция, мы фокусируемся на Эдипе как прототипе наших бессознательных фантазий, что и делал Фрейд, на его каких-то процессах как отражении нашей внутренней мифологии. А миф описывает довольно универсальное расщепление, которое у нас возникает как раз в отношении родительской пары. Это очень удобно, и на это эффективно можно посмотреть. Напомню, у Эдипа есть фиванские родители: родные, которые устрашившись предсказания Оракула, что он отца убьет, а на матери женится, от него отказались, причем сурово отказались, обрекли на смерть. А вторая пара – приемные родители из Коринфа, которые как раз его воспитали, и с ними вроде бы все хорошо. Но коринфские родители олицетворяют вторую сторону в расщеплении. Чем эти пары отличаются? В первой паре есть секс друг с другом, близость, которая и порождает ребенка, т.е. ребенок рождается в результате этой самой близости. Но они занимаются собой, блюдут свои интересы настолько, что убийственно отказываются от ребенка. Во второй паре всё наоборот. Они принимают сына, да, приемного, не родного, но принимают его полностью. Однако между ними нет секса, нет собственных детей, они бесплодные. Они нацелены только на ребенка, и у них нет своего взаимодействия. С точки зрения ребенка – это замечательные родители. У детей до определенного возраста есть фантазии, что секса у родителей вообще не бывает. Это вторая сторона отщепления. Ни та, ни другая пара не является интегрированной и целостной. В первом случае фиванские родители – это плохой контейнер для детских чувств, они не могут не только их переварить – даже просто выдержать ребенка, поскольку он – угроза появления чего-то нового, что угрожает целостности пары, от него приходится избавляться. Контейнер никакой. Но при этом, заметьте, есть живой конфликт и есть творчество, это та пара, которая рожает ребенка, реальные родители. Во втором случае контейнер хороший для переработки чувств и смыслов ребенка, но нет конфликта, какого-то, по сути, взаимодействия. Это порождает ограниченную живость, ощущение ложности, бесплодности, отсутствия творчества. И Эдип вынужден покинуть таких родителей, он не может с ними. Если в первом случае пространства для ребенка нет, то во втором оно есть, но безжизненно. Можно, кстати, заметить, что на сегодняшний момент в европейской культуре, да и в российской уже, доминирует вариант второй пары с гиперопекой. Все родительское внимание зацикливается на детях и обслуживании их потребностей. Как следствие, падает плодовитость.
Мы очень часто воспринимаем пару как совокупность двух объектов, потому что интеллект на нас давит, мы знаем, что пара – это два.
А теперь посмотрим, каким образом описанная конфигурация отражается в терапии и в психоанализе. Аналитик тоже воспринимается как пара по внутренним характеристикам и в соединении с чем угодно. Многие авторы описывают внутреннюю парность аналитика в отношении с кем-либо, даже в отношении со своим разумом, своим умом, в котором он что-то предпринимает. У Роберта Капера в книге «Собственный разум» есть глава, посвященная собственному уму аналитика, по поводу которого как-то фантазируют пациенты. Идея заключается в том, что пациент
переживает дистанцированность аналитика от его проекций как вовлеченность в отношения, которые аналитик имеет с чем-то или кем-то другим. Это реалистичное восприятие: аналитик действительно имеет эти два вида отношений — один со своим пациентом, а другой со своими внутренними объектами. Капер полагает, что внутренним объектом, который помогает аналитику поддерживать свой внутренний барьер против проекций пациента, является и сам психоанализ как особый тип эмпирического исследования (Caper, 1998).
Клиент фантазийно воспринимает аналитика как находящегося в отношениях, куда не включен клиент. Это огромный спектр фантазий об аналитике. Все аспекты взаимоотношений со своим внутренним объектом – со своей внутренней парой проявляются в переносе. Фантазии, порождаемые клиентом, исходят из его собственной конфигурации.
Для младенца родительская пара – это внутренний переходный объект.
Таким образом, у аналитика в любом случае есть, с чем составить пару. Кроме того, в проекциях пациента может быть такое же расщепление. Аналитик может быть фиванской парой, когда он настолько в отношениях со своей теорией, со своими какими-то идеями, что места для клиента не остается. С другой стороны, клиент может проецировать коринфских родителей в аналитика, и тут есть принятие, даже забота какая-то. Это очень приятное чувство для аналитика, хорошо чувствовать себя таким объектом. Но это означает как раз то самое расщепление, которое проецирует вовне всевозможные потребности клиента, проблемы, тревоги, даже соблазнение. Часто, кстати, можно наблюдать в клиническом материале проекции тех (фиванских) родителей, о которых мы думаем, как о реальных родителях пациента. Очень часто мы им косточки перемываем, смотрим с подозрением на их роли. И даже если клиент не сказал ничего плохого о родителях, предполагаем, что, значит, не до конца этот аспект проанализировали. Будто надо добраться до того, чтобы он все-таки понял, насколько они ему жизнь-то испортили. И это очень уместно, заметьте. Мы часто готовы превращаться в коринфскую пару в анализе, но это все равно две стороны расщепления. Если мы их разделяем, то у нас в этом случае пропадает реальная живость и возникает имитация. По идее, конечно, нужен тонкий баланс. Но здесь возникает вопрос: действительно мы балансируем между двумя родительскими образами или, возможно, внутри уже может возникнуть какая-то зрелая интегрированная пара, которая, с одной стороны, позволяет иметь эмоциональные детские отношения с мамой-папой и в то же время эта пара находится внутри собственных творческих отношений. И сепарированность возникает, и совместность. Есть ли, в принципе, возможность такой устойчивой идентификации – это еще вопрос.
Даже если кого-то фактически в паре нет, триадность все равно возникает. Потому что возникает само ощущение, что кого-то нет, что мама одна.
Мы видим, что аналитик действительно идентифицирован с парой и даже воспринимает в себе именно родительскую пару. Он осуществляет разные функции, но именно родительские, а не отдельно материнские или отцовские, хотя они интегрированы в родительские. Это не просто бисексуальность, на которую ссылается Фрейд. Когда мы выполняем терапевтическую функцию, мы выполняем именно родительскую функцию, а не гендерную как таковую. Опять же для наглядности мы условно разделяем, что материнская функция это – функция контейнера, кормилицы, она обеспечивает питание, поддержку. А отцовская – установление границ, некое структурирование. Например, у Херцога, который занимался как раз рассмотрением отцовской функции, есть понятия гомеостатического резонанса, гомеостатического созвучия и нарушения созвучия (Herzog, 1995). Мать стабилизирует, она обеспечивает эмоциональное принятие, гомеостаз – равновесие, а отец привносит что-то новое, развивающее, он раздражающе и провоцирующе действует на ребенка. Важно, чтобы были обе эти функции, нельзя быть с чем-то одним, иначе возникнет перекос. И, по сути, психоаналитик тоже их объединяет. Он, конечно, выполняет материнскую функцию – эта идея очень популярна в психоаналитической литературе, и даже определенную женственность аналитической позиции отмечали многие. Но это только часть. Да, аналитик является контейнером и он позволяет обеспечить проживание, переживание. Вторая, отцовская функция не менее важна – установление границ и дифференциация вообще. Мы различаем, структурируем для клиента, делаем развитие более безопасным. И здесь к функции переживания добавляется функция наблюдения. Когда отец наблюдает, он занимает как бы третью позицию по отношению к матери и ребенку. И в то же время из этой третьей позиции он провоцирует, структурирует. В аналитической работе мы все делаем одновременно. Отсюда важность как раз интегрированного ощущения внутренней родительской пары, именно как пары, а не просто как отдельно материнских и отцовских процессов.
Более того, как я наблюдаю последние десятилетия, профессиональный рост связан с одновременным усилением этих способностей. Нарабатывается способность интенсивного проживания, при этом остается возможность наблюдения. Когда мы работаем с контрпереносом в супервизии, чаще всего обнаруживаем, что что-то из этих функций страдает. Аналитик либо отстраняется, наблюдая, либо, что чаще бывает, вовлекается в переживания. В обоих случаях аналитик на самом деле участвует в диссоциации клиента. Но по мере того, как он учится интегрировать внутри себя полярные аспекты внутренней родительской пары, у него растет и способность к контейнированию любых чувств, даже крайне болезненных, и возможность наблюдать за чем угодно происходящим в себе и в клиенте, выходя постепенно на метапозицию. Соответственно, контейнер у нас состоит из объема и из структуры.
Итак, речь идет о развитии внутренней пары, в рамках которого мы должны и воспринять то, что происходит с клиентом, и оформить это. Точно так же, как это происходит, заметьте, с ребенком в рамках развития и воспитания. Нередко, как я уже упоминал, эти функции диссоциируются в культуре. Сейчас заметен этот крен уже на социальном уровне, когда детям, особенно на Западе, где активно развита ювенальная юстиция, просто нанимают команду. Задача воспитания, развития сводится к тому, что общество выполняет то, что нужно ребенку. Получается, что чрезмерно расширена материнская функция, тогда как отцовская функция ограничения страдает. Ребенок не знает, что он хочет, потому что у него нет границ, ему не от чего оттолкнуться в этой всевозможности. С другой стороны, если доминирует оформление в противовес восприятию, то возникает навязанное воспитание, ребенка загоняют в определенные границы, не слышат реальных потребностей и в результате у него, как минимум, ложная жизнь, если вообще жизнь какая-то будет.
Сейчас я хочу вернуться к устройству фантазии и ее эффективности и поразмышлять о репарации внутренней родительской пары как хорошего объекта. Эта идея свежая, насколько мне известно, ранее ее никто не высказывал. У меня она сформулировалась в процессе наблюдения за парными отношениями и теперь выглядит как что-то естественное, простое и само собой разумеющееся. Но, конечно, она требует большего исследования. Я пытаюсь построить общую картину, внутри которой очень много аспектов и каждую линию есть куда развивать.
Я бы даже предложил сформулировать такое понятие, как эдипов объект.
Итак, для нормального развития, тем более для нормальной аналитической работы должна установиться хорошая родительская пара внутри. То есть это хороший внутренний объект. Да, объект двойственный. Его переходная сущность и структурная хитрость – это определенные его особенности и преимущества, но это все равно хороший внутренний объект, с которым можно идентифицироваться, который можно организовать, опираться на него и как-то использовать. Такое использование в аналитической работе с опорой на внутреннюю родительскую пару пытался описывать еще Роджер Мани-Керл – тоже кляйнианский автор (Money-Kyrle, 1971). А как мы обращаемся с хорошими объектами? Хороший объект требует репарации. И я хочу сказать, что мы осуществляем внутреннюю репарацию по отношению к нашей внутренней паре. Ни к маме, ни к папе, как обычно это бывает, а прямо к этому эдипову объекту. Конечно, всегда происходит атака на этот объект. Ведь мы помним, особенно в кляйнианской парадигме, что эдипова конфигурация выглядит как отношения с объектами, которые исключают субъекта из их удовлетворения. Это болезненно и вызывает агрессию. Мне кажется, что знаменитая бионовская идея атаки на связи как раз про это (Bion, 1959). Бион говорит о плохом контейнере, но, если выразить ситуацию одной красивой внутренней метафорой – а мы помним, что мы обращаемся к мифологической логике – чем целостней картинка, тем она на самом деле эффективнее – ребенок атакует эту самую родительскую связь, ему нужно разорвать их взаимодействие, чтобы они уже обратили-таки на него внимание. И мы можем наблюдать это в работе. Клиент проецирует в аналитика родительскую пару и все время хочет проникнуть в эти отношения. Иногда разрушить, иногда разделить пару. Для себя, конечно. Атака на связи – это атака на родительскую пару. На саму связь между ними. В крайне тяжелых случаях это нападение может выражаться и в атаке на собственное мышление, как у Огдена в описании шизофренического конфликта, когда желание уничтожить смыслы доминирует, и, хотя объекты воспринимаются, практически ничто не переживается и не наделяется значимостью.
Как раз взаимодействие с таким развивающимся объектом позволяет перейти от диады к триаде. Такой внутренний родительский объект функционально — это объект потенциала развития.
Понятно, что разрываем отношения в триаде мы для того, чтобы установить диадные отношения, это – тоже связь. Но я сейчас говорю именно о нападении на связи. Иногда человек зациклен на этом еще даже до установления диадных отношений, поскольку внутренняя пара возникает все время, он пытается ее все время разрывать. Приведу очень локальный пример действия соответствующей интерпретации. У клиента были сложности установления определенных связей, в том числе установления связей с аналитиком, т.е. со мной. В каких-то случаях, мы уже это поняли по регулярным повторениям, когда речь шла о чем-то существенном, т.е. удавалось столкнуться с каким-то значимым переживанием, он засыпал. Ему самому это уже было понятно, т.е. он сам прекрасно знал, что, если он засыпает, – это признак того, что речь идет о чем-то значимом. Но это не спасало ситуацию. Клиент все равно успевал выпасть, успевал напасть на связь и разорвать ее раньше, чем я что-то мог проделать. И ситуация резко изменилась, когда я проговорил, что вот это нападение на связи – это нападение на родительскую пару, попытка разорвать отношения между матерью и отцом. Сначала реакция была однозначная – он ушел в отказ – «чушь какая-то, ерунда». Но потом его накрыло, потому что фантазия работает, если это хорошая интерпретация, тут не надо ничего прорабатывать, дай бог, убежать и убежать-то уже не получается. Т.е. у него пронесся просто каскад инсайтов, как будто в картинку вставили недостающий пазл. Сначала у него была оторопь: «как это так?». Потом картинка стала складываться сама собой, он уже ничего не мог поделать с этим. Она на него просто валилась, и это поменяло всю ситуацию. После этого засыпания прекратились, контакт стал устойчивым. Это вовсе не универсальный рецепт, а попадание в конкретном случае. Мы же помним, что, если мы головой догадались, потом проинтерпретировали, в общем ничего не будет, это будет метафора, а не фантазия. Но если мы держим в себе вот эту возможность понимания взаимодействия именно с родительской парой, то это может оказаться очень хорошей практической концепцией.
Шанс на разрешение эдип получает в подростковом возрасте.
Поскольку есть атака на родительскую пару, то для того, чтобы сохранить контакт с хорошим объектом, мы должны репарировать эту самую пару. И мы это проделываем. Можно предположить, что взрослая влюбленность, влечение к союзу с другим человеком, стремление к партнерским отношениям связаны с репарацией внутренних объектов. Точно так же, как по Кляйн творчество является репарацией материнского объекта, так же мы пытаемся восстановить в себе пару как объект. Здесь я как раз говорю о фантазии. Мы можем говорить о биологических причинах поиска партнера, мы обречены буквально испытывать влечение друг к другу. Но это на уровне условной реальности организмов, а у нас ведь есть еще мифология, та самая, которая внутри нас как-то живет. И вот в рамках мифологии, как мне кажется, ощущая свою агрессию по отношению к внутренней паре, мы пытаемся ее восстановить и ради этого начинаем строить отношения. Мы должны соединиться, чтобы репарировать эту самую пару. Это настолько сильно, что мы буквально не можем не желать этого, мы обязательно в это вовлечемся.
Если мы расширим понятие эдиповости до появления родительской пары на любой фазе, то мы не будем здесь видеть регрессию, мы будем видеть просто проявление различных уровней эдипового конфликта.
Мы в действительности обнаруживаем в партнере и материнские, и отцовские качества, а не чьи-то отдельные. Но чаще всего, люди не видят этого, потому что вроде бы партнер не похож на отца или на мать. Иногда, конечно, наоборот, очень похож – это зависит от конкретного восприятия родительских отношений (порой они еще и абсолютно виртуальные). Но суть в том, что в этих отношениях мы репарируем пару, а не того или иного внутреннего родителя, поэтому там слеплено все. Это именно то, что заставляет нас влюбляться именно в такого человека, в котором будут как негативные, так и позитивные аспекты пары. Очень хорошо это демонстрируют принципы имаго-терапии Харвилла Хендрикса, где отношения с партнером (и не только) раскладываются на элементы – это папино, то мамино и т.д. (Hendrix, 1988). Но это основано именно на взаимоотношениях с парой, а не с конкретными образами. Такое понимание позволяет лучше выстраивать работу. Очень многое зависит от восприятия родительской пары, которое есть у клиента, его нужно исследовать. Обычно мы исследуем взаимоотношения то с матерью, то с отцом, а вот с таким комбинированным объектом, который Кляйн уже описала, но не развернула, тоже, видимо, стоит.
Таким образом, парность – это две стороны одного целого. Эдипов объект — это целостный объект. Поэтому он и объект. Далее могут уже быть разделения для понимания и исследования его структуры. Некое искусственное структурирование. Оно как-то сочетается с миром. Поскольку эти стороны целого представлены в разных людях, нам кажется, что они отдельные. Мы пытаемся каждую обособить, хотя на самом деле смысл они обретают только вместе. Бессмысленно рассматривать суть гендерных или половых различий в отдельности друг от друга, вне этой парности. Нет мужчины без женщины и наоборот. Вытаскивание из пары – это профанация. В этом плане наши функции тоже являются неким искусственным разделением. По идее мы выполняем целостную функцию, но структурируем и делим ее условно, чтобы было легче соображать и чтобы ее было проще освоить, а не потому, что это правда. Ну и, в конце концов, все эти рассуждения о фантазиях – они тоже искусственны.
Аналитик тоже воспринимается как пара по внутренним характеристикам и в соединении с чем угодно.
Литература
- Бласс Р. (2016). Введение в психоаналитическую дискуссию «Как и почему бессознательные фантазии и перенос определяют суть психоаналитической практики. Международный психоаналитический ежегодник, 6 вып., 67-75.
- Фрейд З. (2007). Два детских невроза. М.: ООО «Фирма СТД».
- Abelin, E. (1975). Some further observations and comments on the earliest
role of the father. Int J Psychoanal, 56: 293-301. - Bion W. R. (1959). Attacks on linking. Int J Psychoanal 40: 308-315.
- Bion, W.R. (1961). Experiences in Groups, London: Tavistock.
- Birksted-Breen, D. (1996). Phallus, penis and mental space. Int J Psychoanal, 77: 649-657.
- Blass R.B. (2017). Reflections on Klein’s radical notion of phantasy and its implications for analytic practice. Int J Psychoanal 98: 841–859.
- Caper R. A. (1998). A Mind of One’s Own – A Kleinian View of Self and Object. London, New York: Routledge.
- Chasseguet-Smirgel J. (1984). Creativity and Perversion. New York: W. W. Norton & Company.
- Fenichel O. (1931). Specific Forms of the Oedipus Complex. International J Psychoanal 12: 412-430.
- Frisch S., Frisch-Desmarez C. (2010). Some thoughts on the concept of the internal parental couple. Int J Psychoanal 91: 325–342.
- Hendrix H. (1988). Getting the love you want: a guide for couples. NY: Henry Holt.
- Herzog, J. (1995) Finding the Mother and the Father in the Analytic Play-Space; Attributes of Neurotic Process and Its Subsequent Analytic Exploration - In Honour of the 100th Birthday of Anna Freud. Bulletin of the Anna Freud Centre 18: 261-277.
- Klein M. (1932). The Psychoanalysis of Children. New York: Delacorte Press/ Seymour Lawrence, 1975.
- Lupinacci M.A. (1998). Reflections on the early stages of the Oedipus complex: the parental couple in relation to psychoanalytic work. J Child Psychotherapy 24(3): 409-421.
- Money-Kyrle R (1971). The aim of psycho-analysis. Int J Psychoanal 52: 103–6. Reprinted in: The collected papers of Roger Money-Kyrle, 442–9. Strath Tay: Clunie, 1978.
- Quinodoz D. (1999). The Oedipus complex revisited: Oedipus abandoned, Oedipus adopted. Int J Psychoanal 80: 15-30.
- Quinodoz D. (2015). Theban parents, Corinthian parents: The dichotomisation of Oedipus’ parents. Rom J Psychoanal 8(2): 2019-235.
- Weiss H. (2017). Unconscious phantasy as a structural principle and organizer of mental life: The evolution of a concept from Freud to Klein and some of her successors. Int J Psychoanal 98: 799–819.
[1] Далее по тексту «эдип» для краткости означает эдипову ситуацию или комплекс (профессиональный жаргон), «Эдип» - персонаж древнегреческой мифологии.