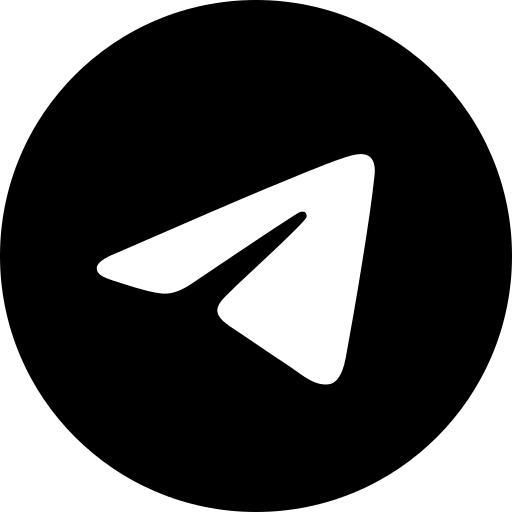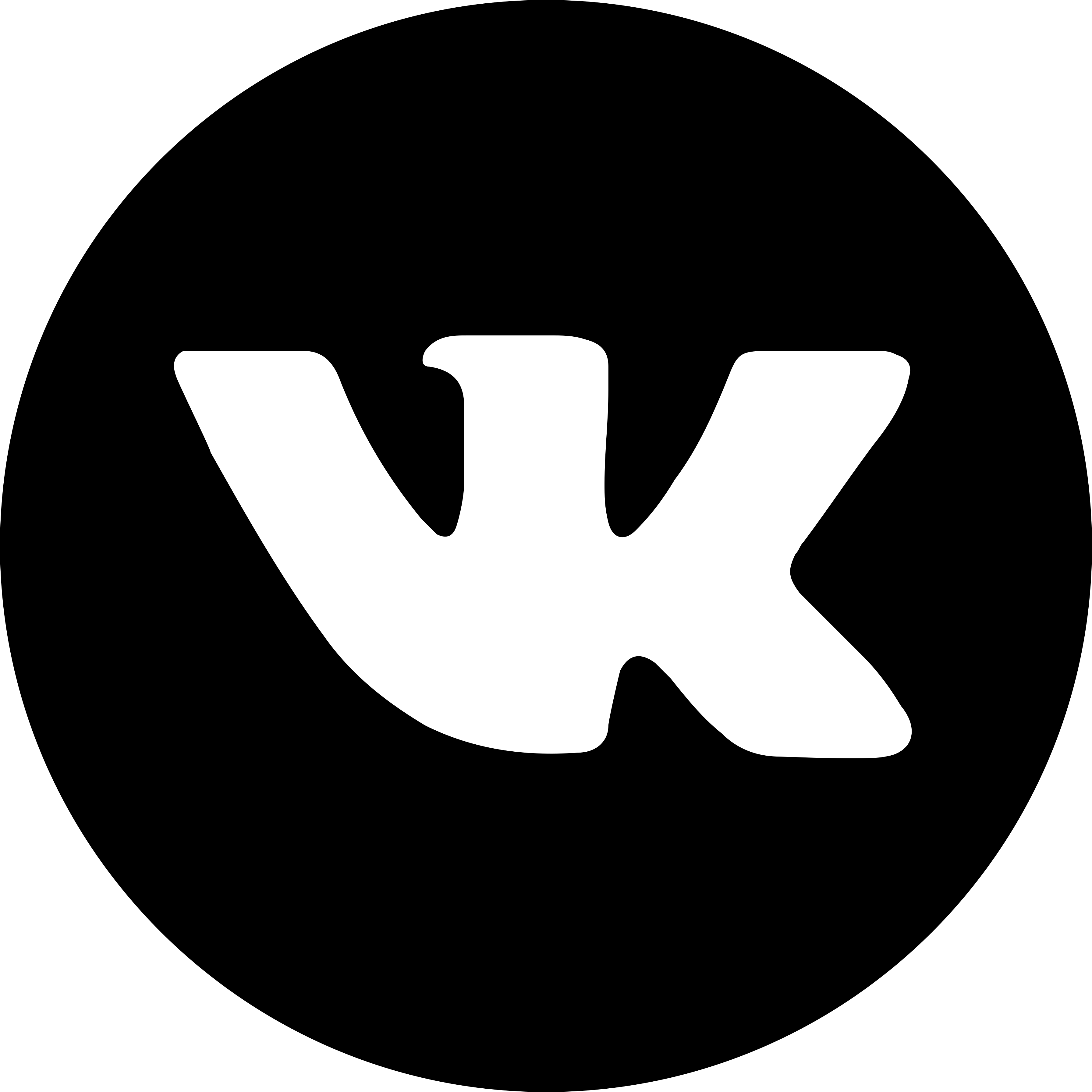- Кандидат философских наук
- Доцент Центра изучения религий РГГУ
- Автор курса «Социология религии» в РГГУ (Москва)

- Кандидат философских наук
- Доцент Центра изучения религий РГГУ
- Автор курса «Социология религии» в РГГУ (Москва)
Я привык считать себя социологом, хотя и необычного профиля – не психоаналитик, не психотерапевт и не психолог. При этом достаточно часто действую как «сам себе психотерапевт». Что это значит? Я человек с повышенной тревожностью, так получилось. Когда по телевидению или по радио сообщают новости или, тем более, рассказывают о сенсациях (news и sensation, как известно — пароль медиа), которые меня так или иначе могут коснуться, стараюсь эти новости как-то рационализировать, представить их как нечто понятное, вписать в привычную для меня картину мира.
Слово рационализация есть не только у психологов, но и у социологов. Означает оно в точности то же самое, то есть, придание рациональности чему-то непонятному и тревожащему. У нас это — не ругательство, у нас это — нормальная процедура. Понятно, что рационализация может быть адекватной и неадекватной. Может быть валидной или инвалидной. Может быть продуктивной, или, наоборот, блокирующей рефлексию.
Так получилось, что, в силу особенностей характера, я достаточно часто занимаюсь рационализацией новостей. Информация, которой я обычно располагаю, и для анализа политических процессов, и когда пытаюсь сам себя успокоить, основана на новостных выпусках, сайтах, блогах. Источник довольно сомнительный. Но современный человек, если он не политик, как правило, черпает информацию из сообщений медиа. В данном случае это чрезвычайно важно, потому что массовый опыт индивида, живущего долгое время в условиях пандемии, опосредствован медиа.
Когда появились первые сообщения о пандемии, благо, эпицентр тогда находился поблизости от того места, где я сейчас живу (живу я в Словении, в нескольких часах езды на автомобиле от Италии, поблизости от мест, где разворачивался этот кошмар), я, естественно, встревожился. Встревожившись, я начал внимательно следить за тем, что нам сообщают медиа, и пытался придать всему этому рациональный характер. Что, собственно, происходит? Вплоть до того, что начал вычислять, какова вероятность того, что я заболею и умру. Насколько велики мои шансы в этой жуткой ситуации остаться в живых. Интересное занятие само по себе, успокаивает. Придает рациональность, к которой стремились платоники и пифагорейцы — рациональность численных отношений.
Для того, чтобы рационализировать картину, которую мне предоставили медиа, я попытался сформулировать парадигму клинического дискурса, понимая клинику как социальный институт по Мишелю Фуко. Я даже выпустил стрим, посвященный парадигме диагностики. В результате я смог определить причину, по которой картина пандемии, представленная в медиа, показалась мне странной.
Стало понятно, что в условиях пандемии условия постановки и верификации диагноза грубо нарушены, вследствие чего медиа экспонируют не только самый процесс распространения инфекции, но параллельно еще какой-то процесс эпидемического типа.
Первая и самая важная странность обнаружилась далеко не сразу, но это такая вишенка на торте. В контекстах клиники действует тот же самый императив, что и в контекстах полиции. Просто дословно: «нет тела — нет дела». Если человек не попался на глаза врачу, то этот человек, по умолчанию, здоров. Просто так устроен институт клиники. Бывает, что индивид вынужден обратиться к врачу в силу действия какой-то административной нормы (например, при диспансеризации), а не потому, что плохо себя чувствует. Тем не менее, он/она всё равно должны предстать перед врачом лично.
Почему Понтий Пилат помыл руки после того, как отдал Иисуса на казнь? Это пурификативный ритуал, а не гигиенический.
В советские времена я часто проходил диспансеризацию в связи с выездами в командировки за границу, надо было получить справку, в которой было написано: «практически здоров». Это не значит, что я был действительно здоров. Это значит, что я могу ехать за границу. Такую же справку получает человек, работающий в авиации диспетчером или пилотом. Такую же справку получает человек, работающий в продовольственном магазине. И так далее. Человек может быть довольно серьезно болен, однако стандарту, который предполагается при диспансеризации, этот человек соответствует.
Рассуждая дальше, я стал думать, как медики ставят диагноз? Если совсем коротко, то в режиме диалога: пациент появляется перед глазами врача и рассказывает о своих жалобах: «Вот тут болит, тут колет, тут чешется, а тут не чувствую». Врач слушает этого пациента и переводит жалобы на язык нозологии. То есть, в потоке этих жалоб распознает какие-то симптомы, опознает синдромы, которые эти симптомы образуют, и на основании этого ставит диагноз: вот это — шизофрения, или это — чесотка, или это — грипп, а этот человек «валяет дурака», симулирует, хочет получить больничный.
В религиях всего мира есть представление о неких виртуальных субстанциях — одна называется по-русски скверна, другая называется благодать.
Стало понятно, что в условиях пандемии все эти условия постановки и верификации диагноза грубо нарушены, вследствие чего медиа экспонируют не только самый процесс распространения инфекции, но параллельно еще какой-то процесс эпидемического типа. Последние лет тридцать я занимаюсь социологией религии. Про инфекцию не знаю ничего, а вот про некоторые процессы, которыми занимаются религиоведы и социологи религии, знаю немало. Как только я разместил свои вопросы в этом контексте, стало понятно, что речь идет не только о распространении инфекции. Есть такой термин в религиоведении – скверна, осквернение. Есть современный жаргонный термин «зашквар», попасть в «зашквар» – оскверниться. В первую очередь, борьба идет со скверной, а только потом, и не всегда адекватно, борьба с инфекцией.
Что такое скверна? В религиях всего мира есть представление о неких виртуальных субстанциях — одна называется по-русски скверна, другая называется благодать. Обретая благодать, вы получаете какие-то блага. Например, если вы сели играть в карты, у вас выпадают тройка, семерка, туз всегда. Если вы вышли на улицу, то шанс попасть в неприятную историю ничтожен — Бог хранит. Кризис чудесным образом вас минует — финансовый, политический. По соседству происходят всякие ужасы, а вам хоть бы что, если вы «подцепили благодать».
Если вы «подцепили скверну», то все наоборот — можно поскользнуться на ровном месте и расшибиться так, что будете долго лежать в больнице. Я люблю приводить примеры из художественной литературы, потому что они наиболее удобны. Есть такой писатель, которого я высоко ценю — Тонино Биноквиста. У него есть роман «Три красных квадрата на черном фоне». Это история молодого человека, преуспевающего, подающего надежды в самых разных областях. Он пошел с подругой на выставку современного искусства. Там на него упала инсталляция, в результате чего пришлось ампутировать кисть правой руки. А молодой человек был в двух шагах от чемпионства страны по бильярду. Это — личностная катастрофа, это, конечно, скверна. То ли девушка не та, то ли не надо было ходить на выставку современного искусства. Осквернившись, любой военачальник проигрывает битву. И так далее.
Принято считать, что эпидемическими являются процессы распространения сплетен, новостей, сенсаций. Журналистика работает на эпидемических процессах.
В любой религии в большей или меньшей степени есть так называемые пурификативные ритуалы, или ритуалы очищения. Очищения от скверны, а не от инфекции или от грязи. Другое дело, что большинство процедур, которые мы сегодня знаем как расхожие гигиенические, возникали как пурификативные.
Почему Понтий Пилат помыл руки после того, как отдал Иисуса на казнь? Это пурификативный ритуал, а не гигиенический. Почему мы вытираем ноги при входе в дом, почему меняем обувь и одежду при входе в дом? Да, в этом есть гигиенический смысл. Но первоначально это был пурификативный ритуал. Почему существует выражение «грязные» деньги? Они грязные в буквальном смысле? Нет, их нельзя брать, потому что попадешь в «зашквар», осквернишься, «подцепишь» скверну. И такого много, можно писать отдельную большую монографию про эту самую скверну.
Еще важно сказать, что скверна распространяется благодаря процессам, которые в математике давно называются эпидемическими. Это эпидемические социальные процессы, для их описания применяется та же самая математическая модель Пуассона, которая первоначально была разработана для анализа распространения эпидемий. Принято считать, что эпидемическими являются процессы распространения сплетен, новостей, сенсаций. Журналистика работает на эпидемических процессах.
Если кто знаком с делом «сэйлемских ведьм», то там кривая заявлений в правоохранительные органы хорошо описывается как эпидемическая кривая: резкое возрастание, потом длинный спад. Так выглядит и описывается любая эпидемия.
В рамках представления о скверне в самых разных областях формировалось очень важное представление о неприкосновенности и неприкасаемости. Это не про эпидемию. Есть люди, которых нельзя касаться. Почему? Они неприкосновенны. Любое касание их оскверняет. Они должны быть удалены от обыкновенных людей, которые могут быть как приличными людьми, так и разносчиками скверны. Так определяется элита.
Точно так же появляется категория неприкасаемых. Их нельзя касаться, потому что скверну подхватишь, попадешь в «зашквар». Естественно предположить, что это такая мистифицированная форма представления об инфекции, но нет. Это — такая гибридная форма представлений о контактах между людьми. У древних людей опыт инфекций, опыт пандемий, эпидемий был куда более богатый, чем у нас, это — реальность, в которой они постоянно жили. Но это еще и опыт общения с чужаками, опыт контактов с мертвецами, некий аффект, который охватывает человека при созерцании мертвого тела, при внезапном появлении чужака. В понятии скверны эти два опыта, опыт эпидемий и опыт чужого, тесно соединены.
Представление об инфекции выделилось из представления о скверне по историческим меркам недавно и даже не вполне. Окончательно об отделении можно говорить только в середине 19 века. Когда появляются гигиенические правила — акушерам мыть руки, у Н. И. Пирогова появились требования к хирургам мыть руки. До этого прививки от оспы внесли свой вклад в тему. А до этого одно от другого не отделяли. Считается, что впервые преставление об инфекции отделил от представления о скверне Джироламо Фракасторо, который в 1530 году написал книгу о лечении сифилиса. До сих пор у нас сифилис считается скверной болезнью, этот эпитет в данном случае не случаен.
Есть сферы, где представление о скверных контактах действует в полном объеме без отсылки к инфекции — это тюрьма, криминальные сообщества. Там есть категория неприкосновенных, есть категория неприкасаемых, есть средняя категория «мужики» (карьера этой категории может быть разной). Можно вспомнить закрытые религиозные общины, которые уничтожают посуду, которой пользовались гости. Не моют, не дезинфицируют, а сжигают. Это классический пурификативный ритуал — огонь, который очищает.
Если речь идет действительно о скверне, а не об инфекции, то роль медиа становится понятна и велика. Все, включая меня самого, черпают информацию не в специальной медицинской литературе для врачей, а в медиа, именно поэтому все оказались причастны к этому процессу, и все провалились в лиминальность. Процесс, который мы наблюдаем как обыватели, на телевидении, в радиоэфире, в интернете, развертывается именно как циркуляция скверны, а не инфекции.
У катаров (религия в начале второго тысячелетия н.э.) был у руководителей религиозных общин статус — совершенные. На них не распространялись этические нормы этой общины, они защищены от греха неприкосновенностью. Для чего? Для греха, конечно, для скверны.
Такая же история была в середине 16 века в Нидерландах. Существовала Мюнстерская коммуна, в которой локальная теократия считала себя совершенной и безгрешной при чрезвычайно развратном образе жизни. Они имели на это право.
Про неприкасаемых говорить не буду, слово «зашквар» отсылает нас к определенному социальному феномену и процессу. Понятно, что речь идет не об инфекции. Понятно, что речь идет о скверне.
Традиция печь пироги и выставлять их на стол как праздничное угощение, скорее всего, пережиток древнейших ритуалов жертвоприношения, входивших в комплекс практик очищения от скверны. Сначала на стол, за которым собрались юноши иницианты, подавалась корзина с пирожками строго нечетного числа. Один из этих пирожков был с трефной начинкой – из мяса тотемного животного или даже человечины. Тот, кому он достался, приобретал особый статус индивида, которого следует принести в жертву. Этот индивид из-за стола изгонялся, оставшимся подавался открытый пирог с растительной начинкой, сыром, морепродуктами, грибами, разрезанный на четное количество долей. По этой модели, кстати, до наших дней готовят пиццу.
Аналогичные функции, скорее всего, выполнял древнейший карнавал. Одевши маску, его участники приобретали статус носителей скверны, то есть, потенциальной жертвы. Тот, кто предложил другому снять маску, тоже приобретал такой статус. На это недвусмысленно указывает фольклор, окружающий обычаи и практики карнавала.
Медиа присвоили себе статус экспертного сообщества.
Маска, как и пирог — диспозитив посредничества между повседневностью и каким-то иным миром за ее границами. Пирог едят на праздник, связанный с каким-либо обрядом перехода, маску носит человек, заживо отправленный во тьму внешнюю, в маске к народу выходит жрец, совершающий дивинацию, чужак, палач, актер на сцене, да мало ли их таких.
Отсюда видно, какие странные ритуалы, обычаи и привычки порождает циркуляция скверны. До какой степени эти ритуалы и обычаи актуальны до сих пор, только мы не всегда это осознаем. Маска, в частности — это не просто так, за маской огромная тысячелетняя историческая традиция, уходящая в глубины бессознательного семантика. Все эти манипуляции: носить маску, не носить маску, защищает от инфекции, не защищает от инфекции — на самом деле, разговор о скверне.
Ну, и про карантин. Первоначально, в Венеции был остров, куда отправляли моряков, прибывших из дальнего плавания. Отправляли на какое-то время, чтобы подождать, не являются ли они носителями инфекции. Побыв в карантине какое-то время, моряки получали право перебраться в город и жить нормальной жизнью.
В отличие от этого всеобщий карантин, который время от времени пытаются установить «цивилизованные страны», разумеется – образцовый contradiсtio in adjecto. Такой карантин заведомо не предполагает какого-то небольшого, но социально опасного контингента, который должен быть изолирован от здорового большинства.
Надо признать, что пандемия очень сильно разрушила повседневность обыкновенного человека. Кто-то пострадал больше, кто-то меньше, но привычный, сложившийся десятилетиями образ жизни, пострадал. На протяжении двадцатого века со времен эпидемии испанки ничего подобного не было, но тогда была война. Это разрушение повседневности, которое коснулось и обывателей, и врачей вызвало процесс, который называется моральная паника.
Моральная паника — это страх попасть в «зашквар», распространяющийся как эпидемический процесс. За последние 20 лет опубликовано довольно много литературы на тему моральной паники, как об особом эпидемическом процессе. Первая моральная паника была в связи с пандемией AIDS (спида).
Здесь свою критически важную роль сыграли опять-таки медиа. Хлеб насущный медиа, как уже сказано, — это news и sensation, то, что бьет по нервам. Во всей довольно сложной картине происходящего акцентировалось именно то, что бьёт по нервам и вызывает панику. Повышается спрос на новости, это повышает доходы медиамагнатов.
Надо признать, и пандемия это показала, что отношения между экспертным сообществом и медиа никуда не годятся. Медиа присвоили себе статус экспертного сообщества. В результате, психологические и экономические потери от эпидемии оказались гораздо выше, чем можно было бы предполагать.
ЛИТЕРАТУРА:
- Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2005.
- Леви-Стросс К. Путь масок. М.: Республика, 2000.
- Тэрнер В. Обряды перехода. М.: Наука, 1983.
- Sorlin P. Mass Media. L.-N.Y.: Routledge, 1994.
- Thompson K. Moral Panics. L.N.Y.: Routledge, 1998.