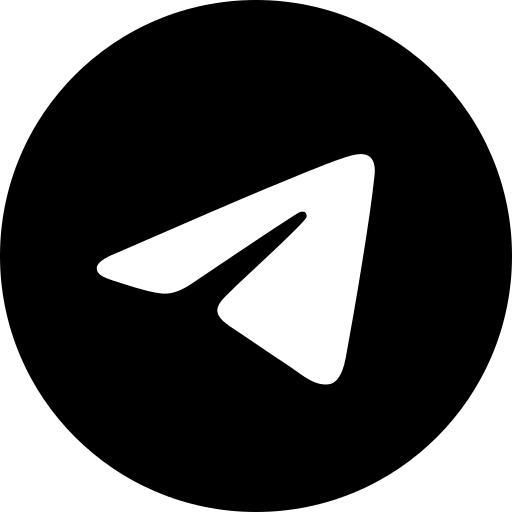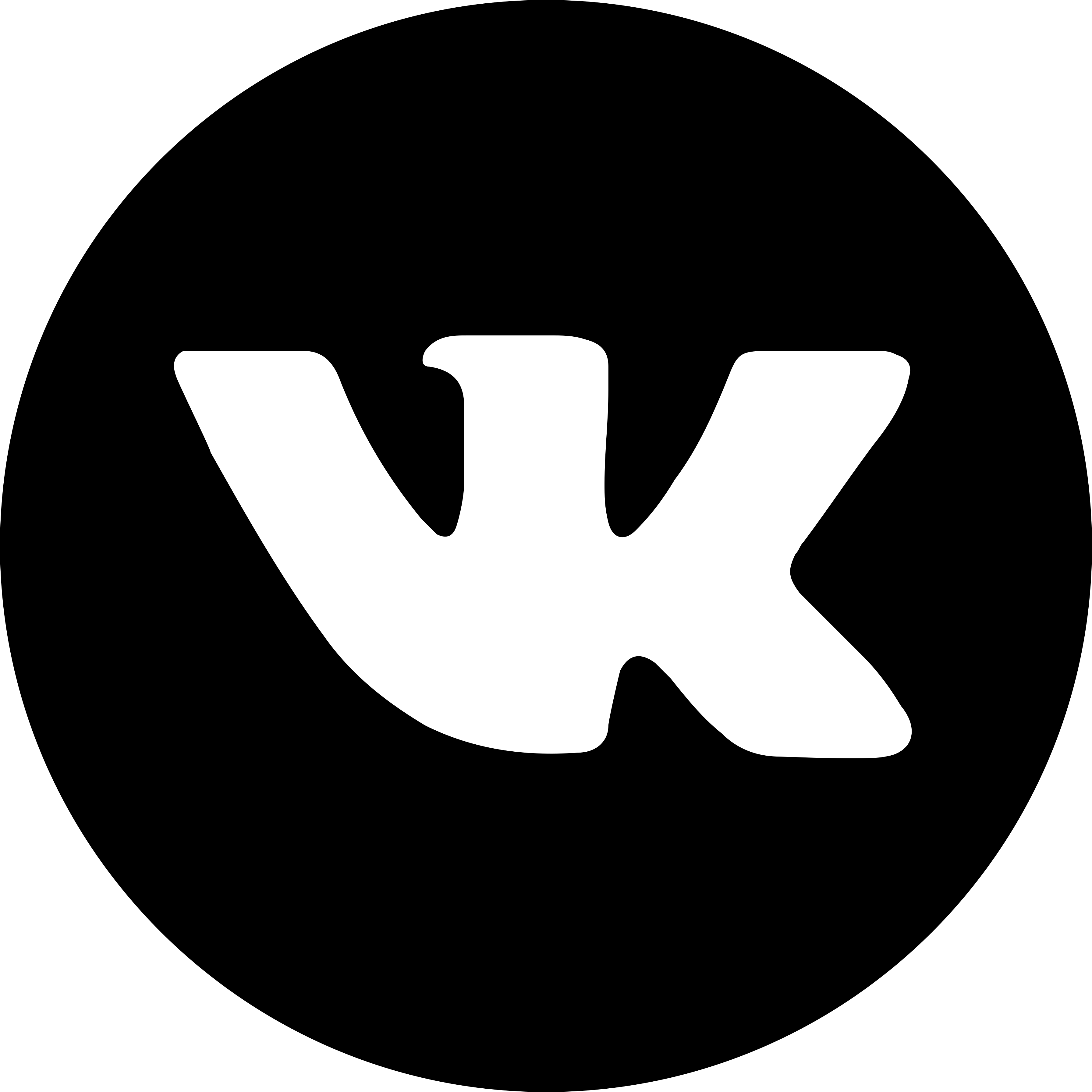- Член ЕАРПП
Психоаналитики, безусловно, придают огромное значение изучению раннего телесного опыта, но редко задумываются о том, каким образом психоанализ стал, в принципе, возможен, и почему он остается возможным и сейчас. Какие тектонические сдвиги в социокультурном поле могли привести к открытию психоаналитических истин? Очевидно, что матери, отцы и дети были всегда, но психоанализ родился только на стыке 19-20 столетий. Означает ли это, что раньше проблемы, сопряженные с детской воображаемой телесностью, были недоступны научному видению, но так же сильно влияли на психическое развитие, как влияют сейчас? Достаточно вдуматься в это, чтобы обнаружить наивность и поверхностность такого взгляда на вещи. Конечно, речь не идет о том, что психоанализ вдруг обнаружил нечто от века сокрытое, скорее, западное мышление уже было подготовлено к актуализации вопроса о бессознательном и новой интерпретации психопатологических явлений во многом за счет картезианского сдвига.
Р. Декарт, впрочем, как и З. Фрейд, ничего принципиально нового не открывает, но высвечивает или собирает то, для чего уже подготовлена почва. Эффект картезианского поворота к моменту кристаллизации фрейдовской мысли достигает высшей точки. Клиническая картина психических расстройств, начиная с 17-18 веков значительно меняется, а психоанализ в некотором смысле фиксирует эти метаморфозы. С одной стороны, психоанализ, если ориентироваться на точку зрения М. Фуко и Ж. Деррида, становится новой возможностью что-то сказать о безумии, претендуя на научную объективность и невовлеченность. С другой стороны, психоанализ сам несет в сердцевине своего дискурса то самое безумие, предлагая субъекту сомневаться в мотивах собственных поступков. При этом хорошо видно, как попытки адептов психоанализа объяснить безумие сами по себе становятся все более безумными. Это и есть основной эффект картезианского расщепления, влияния которого на психоанализ, аналитики чаще всего, к сожалению, не замечают. Некоторые, из них, например, Р. Столороу, размышляя об этом, придерживаются поверхностной интерпретации наследия декартовой мысли и заявляют, что традиционная фрейдистская теория проникнута картезианским «мифом об изолированном разуме», а современный постфрейдовский психоанализ, якобы, преодолевает этот разрыв. Если говорить кратко, мысль Р. Декарта действительно увеличивает трещину в бытии, внося в него еще больше противоречивости и сумятицы. Причём, это уже прослеживается в текстах самого Р. Декарта, который вынуждает нас разбираться с двусмысленностью своего философского посыла, основание которого лежит в мире грез. Хорошо известно, что Р. Декарт в ночь с 10 на 11 ноября 1619 года увидел три странных сновидения. Именно их анализу, как указывает в своем исследовании С. Фокин, обязано начало научного пути французского мыслителя. «10 ноября, когда я был преисполнен энтузиазма и открывал основания восхитительной науки» — записал сам Р. Декарт. Любопытно, что по просьбе историка идей М. Леруа одно из этих сновидений в переписке с ним прокомментировал З. Фрейд. Далее я хочу сослаться на любопытную работу А. Смулянского об акте высказывания, в которой он обращает внимание на двусмысленность суждений Р. Декарта. В одном из своих размышлений о методе Р. Декарт призывает нас безоговорочно и без лишней рефлексии принимать правила «чужого монастыря», раз уж нам довелось там оказаться. Но уже буквально в следующем пункте он настаивает на необходимости держаться своего собственного мнения, если оно кажется нам наиболее разумным в данной ситуации. Более того, Р. Декарт утверждает, что мы в некотором роде не отвечаем за свою речь, поскольку рассуждение, которое судит о некотором предмете, и рассуждение, которое берет на себя ответственность за предыдущее рассуждение, никоим образом друг с другом не связаны. Это странно, так как привычное представление о картезианстве предполагает как раз обязательный контроль одного уровня сознания над другим, а также возможность понимать, как наше «Я» действует. Психоанализ ни в коей мере не преодолевает этого расщепления, а как бы вырастает из него, в полной мере сохраняя в себе его эффекты, впрочем, так же, как и квантовая физика. Я бы даже сказал, что психоанализ углубляет эту трещину, продуцируя все более и более странные, сложные и своеобразные объяснения психической реальности, и настаивает при этом на научности своего подхода.
Клиническая картина психических расстройств, начиная с 17-18 веков, значительно меняется, а психоанализ в некотором смысле фиксирует эти метаморфозы.
(Из интервью с Рене Жираром.
Ги Лефор: Некоторые сожалеют о редукционистском характере вашей теории.
Рене Жирар: Мне нечего на это ответить. В этом вопросе я полностью разделяю позицию К. Леви-Стросса. Либо научное исследование редукционно, либо его не существует вовсе).
Хорошо видно, как попытки адептов психоанализа объяснить безумие сами по себе становятся все более безумными. Это и есть основной эффект картезианского расщепления, влияния которого на психоанализ, аналитики чаще всего, к сожалению, не замечают.
Наряду с появлением работ Р. Декарта на рубеже 16 и 17 столетий происходит несколько знаковых событий, по сути, ставших выражением существенного разворота в западном мышлении. Это, в первую очередь, рождение двух великих художественных произведений: «Гамлета» Уильяма Шекспира и «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса с разницей примерно в 5 лет. В этих текстах уже обнаруживаются свидетельства того, что картина душевных недугов претерпела серьезные изменения, и отныне они должны пониматься иначе — то есть, уже тогда все было готово к появлению психоанализа, чьи идеи засверкали 300 лет спустя. Но чуть раньше в 1860 году И.С. Тургенев выступил с известной речью, посвященной «Гамлету» и «Дон Кихоту». Кстати, психоаналитикам стоит внимательнее прислушиваться к слову, которое, казалось бы, так далеко отстоит от их привычного мира — это позволяет время от времени проводить ревизию устоявшихся и одновременно отяжелевших от излишней терминологии идей и концепций. И.С. Тургенев: «Мы сказали, что одновременное появление «Дон Кихота» и «Гамлета» показалось нам знаменательным. Нам показалось, что в этих двух типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы — оба конца той оси, на которой она вертится». И в другом месте: «Эти две силы косности и движения, консерватизма и прогресса — суть основные силы всего существующего. Они объясняют нам растение цветка, и они же дают нам ключ к уразумению развития могущественнейших народов». Итак, две силы: косности и движения — вот что психоаналитик должен, прежде всего, держать в своей голове. Понятно, что речь не идет об очередной классификации или типологии характеров. Косность и движение, разделение и соединение — суть, основные и элементарные принципы организации жизни как таковой. Если они не становятся для нас путеводной нитью, мы рискуем окончательно потеряться в круговерти современных психоаналитических концептов. Только из этой точки может открываться смысл сложных психопатологических явлений, только через эту призму могут рассматриваться вопросы диагностики и переноса. Рефлексия этих элементарных принципов должна предшествовать изучению альфа-функции, проективной идентификации и других аспектов клинического опыта. Это отлично понимал Э. Минковски, разрабатывая свой проект феноменологической психиатрии, в частности концепт «синтонии — шизоидии». Это интуитивно понимала и М. Кляйн, описывая параноидно-шизоидную и депрессивную позиции. При ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем в этих описаниях не что иное, как движение от чего-то или движение к чему-то, ту самую косность или готовность к изменениям, что формирует две базовые структуры психики: обсессивную и истерическую. Проблема кляйнианского психоанализа в том, что сама М. Кляйн, предпочитая использовать категориальный аппарат психиатрии, создала прецедент для соответствующего тренда в современном психоаналитическом мышлении. В результате мы получили вариант «психиатрического психоанализа», концептуально еще более запутанный и противоречивый. Поэтому, обращаясь к неокляйнианским подходам, стоит придерживаться вышеуказанных ориентиров, дабы окончательно не заплутать в свойственной психоанализу логике сумасшествия. Мы не должны забывать о «бритве Оккама». Этот методологический принцип экономии мышления позволяет не преумножать сущее без надобности. Иными словами, предпочтительны более простые объяснения явлений, нежели сложные, если первые это явление объясняют достаточно хорошо.
Две силы: косности и движения — вот что психоаналитик должен, прежде всего, держать в своей голове.
Эту проблему можно проиллюстрировать и по-другому, а именно двумя позициями относительно истины, лежащими в основании западного мышления. Из первой начинается так называемый сократический диалог. Он предполагает постепенное раскрытие истины (приближение к ней — это единственный ориентир: взгляд участников диалога как бы вынесен вовне; он в большей степени расположен в приближающейся к истине точке или, напротив, удаляющейся от нее, и почти не затрагивает самих участников, определяя их в зависимости от удачи или неудачи на пути поиска истины). Истина здесь становится в конечном итоге припоминанием в платоновском смысле, а ее поиск — восхождением к тому месту, где она от века сокрыта. Вторая позиция, условно называемая софистической и берущая свое начало от Горгия, предполагает, что язык в целом всегда выговаривает истину, что он является, скорее, не инструментом ее выявления и не способом ее выявлять, а фармаконом, то есть, снадобьем, которое способно порождать в душе собеседника различные эффекты. Здесь мы, скорее, оказываемся в этическом и одновременно суггестивном поле, потому что говорящий с неизбежностью несет ответственность за то, что он сотворил с душой другого человека. Истина в этом случае определяется иначе — она не противопоставлена неистинному. Ее проявление — это вера на слово, ослепление, а не кристальная прозрачность логического вывода; это устроение души по образу и подобию, мимикрия, соединение со словом другого без разногласия. Вышесказанное под другим углом отображает обсессивную и истерическую структуры и, соответственно, два измерения переноса, без учета которых последний, в принципе, не может быть рассмотрен.
Мы не должны забывать о "бритве Оккама". Этот методологический принцип экономии мышления позволяет не преумножать сущее без надобности.
Отсюда постепенно начнем переходить к вопросу о бесконечности и абстиненции психоаналитика. Как я уже упоминал, Р. Столороу противопоставляет «классическую» фрейдовскую модель, которая, якобы, наследует, картезианскому разлому с обособлением познающего субъекта, экзистенциальной позиции М. Хайдеггера, восстанавливающей целостность переживания человеческим существом «бытия-в-мире». От М. Хайдеггера Р. Столороу сразу перебрасывает ассоциативный мост к концепции Х. Когута, акцентируя внимание на одном из понятий хайдеггеровской философии, которое будто бы имеет отношение к «аффективности» и будто бы созвучно мыслям австро-американского психоаналитика. Одинаково поверхностно и наивно выглядят как его интерпретация зависимости фрейдовской модели от картезианского наследия, так и идея сближения размышлений М. Хайдеггера с более поздними психоаналитическими теориями. Тем не менее, именно таким образом готовилась почва для более поздних исследований в реляционном анализе, осуществлялись постепенный поворот к холистической точке зрения на происходящее в кабинете аналитика и попытки вернуть пациента миру. Но проблема в том, что психоанализ, в принципе, не в состоянии преодолеть своей собственной базовой конфигурации: отношения «аналитик-пациент» остаются замкнутой фигурой, несмотря на все наши интерпретативные усилия.
Язык в целом всегда выговаривает истину, он является, скорее, не инструментом ее выявления и не способом ее выявлять, а фармаконом, то есть, снадобьем, которое способно порождать в душе собеседника различные эффекты.
У. Бион в работе «Внимание и интерпретация» пишет о том, что аналитик должен стать бесконечным для пациента. Предположим, но как это возможно? Без мысли, без желания и памяти, — продолжает У. Бион. Складывается впечатление, что аналитик в бионианском смысле, отказываясь от воспоминаний и желаний (то есть от следов сенсорного опыта), все равно остается отгороженным от пациента — он как будто погружается в свой почти психотический мир свободно плавающей интуиции, что позволяет ему особым образом улавливать сообщения своего пациента и раскрывать максимум скрытых в них смысловых потенций, препятствуя слишком быстрому насыщению «О» и освобождая многочисленные вертексы. Проблемой здесь выглядит сама позиция аналитика — он остается, пусть и «достаточно хорошим», но, все-таки, отделенным от пациента контейнером. Дело в том, что бионианский аналитик не в силах избежать своей же преконцепции или, другими словами, базового противопоставления: «контейнер — контейнируемое», в котором уже угадывается диктат тотализирующей логики. Аналитик с неизбежностью оказывается «схвачен» этой бинарной оппозицией, даже несмотря на ясное осознание взаимозаменяемости ее элементов. Он не чувствует, что эта пара подчиняет его мышление: какая бы степень проникновения не предполагалась для контейнера и контейнируемого, аналитик остается внутри этой бинарности отдельно существующим аппаратом для улавливания психических процессов пациента и их альфабетизации. Пусть я сейчас резервуар, а ты содержимое, пусть граница между нами постоянно флуктуирует, мы все равно скованны логикой тотализации: так как, если я являюсь этим — ты с неизбежностью становишься тем. О том же самом пишет и Ж. Лакан, полагая, что субъект образуется в игре означающих, каждое из которых содержит в себе свою противоположность и таким образом определяет другое. Оттенки принуждения и конфликта здесь налицо. Но перенос, на мой взгляд, должен устанавливаться при отказе от самой логики бинарности, а не только от воспоминаний и желаний, как предлагает это сделать У. Бион. Иными словами, мысль У. Биона об абстиненции должна быть доведена до своего предела. Если я больше не аналитик, не контейнер, и у меня больше нет ни имени, ни истории, — сидящий напротив меня становится воплощённым величием и нищетой одновременно, бесконечными и абсолютно недоступными моему сознанию; я больше ни на что не претендую, и мне остается только отдать себя в полное его распоряжение, предоставить ему возможность решать за меня: кто я, что я здесь делаю, чего боюсь и о чем мечтаю. Только тогда возможна встреча с бессознательным.
Говорящий с неизбежностью несет ответственность за то, что он сотворил с душой другого человека.
Отдельно стоит сказать об отношении к переносу и абстиненции в реляционном анализе, развивающем концепции Х. Когута и М. Балинта. При всей моей симпатии к работе Филиппа Бромберга, Стивена Митчелла, Роберта Гроссмарка, Брюса Рейса и других их подход остается, на мой взгляд, слишком зависимым от идеи ранних нарушений эмоционального контакта с материнской фигурой, в частности, от идеи холдинга. Именно поэтому складывается впечатление, что «ненавязчивый» анализ, полностью лишенный интерпретативной активности в классическом понимании, — это удел глубоко нарушенных пациентов, не способных в принципе выдерживать вербальные интервенции в процессе анализа, направленные на объяснение и трактовку происходящего. При всей моей солидарности с позицией Р. Гроссмарка, я считаю, что кляйнианско-бионианская базовая матрица серьезно ограничивает обоснование инновационности его подхода к ведению пациентов. Недостаточность ревери матери, несформированность альфа-функции, провал холдинга, ложное селф, фрагментарность психического мира пациента — все это моментально отсылает нас к основной функции аналитика как компенсирующей ту или иную нехватку пациента. Реализация этой функции должна привести пациента к ощущению большей целостности и автономности своего существования. То есть, аналитик так или иначе принимает на себя материнскую роль, постепенно восстанавливая «поврежденные части селф» своих пациентов. Обычно мы не замечаем, что подобный подход значительно сужает поле рассмотрения тех или иных психических феноменов. В частности, понимание бессознательного ограничивается циркулирующими в диаде «аналитик — пациент» «объектами», существующими в разных модусах.
Но проблема в том, что психоанализ, в принципе, не в состоянии преодолеть своей собственной базовой конфигурации: отношения «аналитик-пациент» остаются замкнутой фигурой, несмотря на все наши интерпретативные усилия.
Р. Гроссмарк в одной из своих статей пишет о том, что в работе реляционного аналитика нет полного отказа от своей субъектности, а есть лишь ее предоставление в частичное пользование пациенту. Осторожность этой мысли вполне понятна: Р. Гроссмарк находится внутри традиционной рамки современного понимания психоаналитического процесса. Аналитик выступает в качестве взращивающей среды, собирающей фрагментированную самость пациента. Под этим подразумевается, что и пациент, и аналитик вместе пребывают в некоем онейрическом состоянии, соответствующем материнскому ревери. Все ограничивается так называемыми диадными отношениями с формированием аналитического третьего — особого поля, которое и является, по сути, полем бессознательного. Таким образом, бессознательное перестает быть проявлением изолированной психики пациента и становится продуктом коммуникации между ним и самим аналитиком. Это, безусловно, можно назвать завоеванием современного психоанализа. Но, чтобы психоаналитическая мысль сохраняла свой пульс, необходимо радикализировать и это представление. Доведение той или иной идеи до своего предела позволяет увидеть происходящее более объемно и убедиться в том, что идея в своей высшей точке, с одной стороны, становится предельно простой, а с другой стороны уже содержит в себе все свои ограниченные частности. Поэтому, возвращаясь к Р. Гроссмарку, речь необходимо вести о стремлении к полному отказу от своей субъектности в психоаналитическом процессе. Невозможно мыслить ее как нечто, берущееся напрокат. Скорее, это должно быть так, как пишет М. Пруст (перевод М. Мамардашвили): «... Эту сущность, essence, высвобожденной, почувствованной жизни нужно уже не прятать снова под ложью. Не заботой произвести тот или иной эффект, не леностью, не ленивым прибеганием к заученным формулам, которые цветут вокруг, не припадками настроения физического индивида, которому не удается забыть самого себя. Физический индивид, который не может забыть самого себя, который сохраняет в тот момент, когда он пишет, ощущение своего лица, своего рта, своих рук вместо того, чтобы превратить самого себя в пористую, пластичную, податливую материю, которая становится самим этим впечатлением, которая мимирует это впечатление, его воспроизводит, и все это нужно для того, чтобы иметь уверенность в том, что мы не изменили это впечатление и ничего к нему не добавили, и ничего не убавили...» В этом случае перед нами открывается совсем другой горизонт понимания бессознательного, в настоящее время скованного образом диады или, что то же самое, сообщающихся замкнутых сосудов. В эпоху квантовой физики мы уже не можем мыслить бессознательные процессы при помощи подобных метафор. Тем более, что идея третьего или невытесненного бессознательного, упомянутого З. Фрейдом, сегодня как никогда требует своего рассмотрения. Преобладающий в настоящий момент взгляд на взаимодействие в паре «аналитик-пациент» не дает возможности соприкасаться с бесконечностью в бессознательном, то есть видеть в нем особое пространство с неуклонно увеличивающейся размерностью. Это хорошо видно на примере некоторых неокляйнианских теорий, в частности в теории Д. Мельтцера. Его довольно интересные в целом идеи клауструма, зональной спутанности или адгезивной идентификации так или иначе касаются пространств привычной нам размерности (максимум четырехмерных), так как эти пространства, по сути, мыслятся по образу и подобию материнского тела с его очерченными границами, пусть и предполагающими проницаемость и периодическое смешение «внутреннего и внешнего». Принципиальная идея многомерности психического мира и бессознательного как бесконечных множеств, обозначенная У. Бионом и получившая развитие в работах И. Матте Бланко, к сожалению, теряет свой герменевтический потенциал как только мы начинаем воспринимать психоаналитический процесс исключительно через призму раннего телесного опыта. Сама идея телесности с неизбежностью ограничивает размерность психоаналитического пространства и не дает нам видеть невидимое глазом в опыте взаимодействия с пациентом.
Недостаточность ревери матери, несформированность альфафункции, провал холдинга, ложное селф, фрагментарность психического мира пациента — все это моментально отсылает нас к основной функции аналитика как компенсирующей ту или иную нехватку пациента.
Что же мы не способны видеть в первую очередь? Например, то, что способна отразить бутылка Клейна, топологическая модель, матрица самоощущения современного субъекта, которая определяет характер его высказываний и психического реагирования в целом. Особенно наглядно это проявляется в крайне распространённых сейчас так называемых «панических атаках». Еще лет двадцать назад мы фиксировали периодические случаи этого расстройства. Сейчас оно становится своеобразным трендом, и связано это, конечно, не с тем, что изменился характер догенитального взаимодействия матери и ребенка. Мы наблюдаем в них своеобразное выворачивание наизнанку, где меняются местами внутреннее и внешнее. Но как именно? Субъект ищет убежища, столкнувшись с предчувствием бесконечности, уже просачивающейся в евклидово пространство его сознания. Характер восприятия в таком случае резко меняется. Клаустро-агорафобический комплекс ощущений — это обнаружение себя в тисках «замкнутого» пространства (неважно, что это: вагон метро или площадь в центре города). Проблема здесь даже не в наличии осязаемой, физически сковывающей границы, а в том, что перед субъектом встает вопрос бесконечно длящегося страха. Интересен выход, который в данном случае находит психика, представляющий собой типичный комплекс соматических симптомов: позывы на мочеиспускание, тошнота, тахикардия или сбой дыхательного цикла. Для чего все это нужно? Для того, чтобы скрыться, то есть провести новую границу между внешним и внутренним, избегая таким образом ужаса перед бесконечностью, искажающей привычное ощущение пространственно-временного континуума. Тела становится слишком много и одновременно слишком мало (если говорить о его «поверхности»): то, что мы условно считаем нашими внутренними процессами, выворачивается и пытается занять центр сознания (например, ощущения в области сфинктеров), то есть в некотором смысле становится «внешним», но одновременно сохраняет характер вместилища, так как именно там теперь прячется «Я». А давящее отовсюду пространство, напротив, приобретает характеристики «внутреннего», так как тоже стремится завладеть сердцевиной сознания. Впрочем, это не точное описание, так как понятие сердцевины уже предполагает нечто внешнее. Скорее, здесь происходит полное отождествление с безграничным пространством — телесные контуры больше не обеспечивают безопасности субъекта. Тело как бы вбирает в себя необъятное пространство, охватывает его, причем необъятным оно может ощущаться, даже являясь физически узким. Чувство необъятности определяется не материальными границами, а кажущейся бесконечностью поиска выхода из него. Привычные границы тела с неизбежностью размываются, поэтому дереализация и деперсонализация — это типичное сопровождение панического приступа и гораздо более значимая его составляющая, нежели собственно тревога. Пациентка С. описывает улицу, на которой она оказалась впервые. Улица довольно узкая, ограниченная с двух сторон тесно стоящими домами. Паника нарастает очень быстро, возникает чувство отчужденности, нереальности происходящего, сильный позыв на мочеиспускание и вторичная тревога самоконтроля. В обсуждении становится понятно, что принципиально пугающим фактором является не узость пространства как таковая, а ощущение бесконечности уходящей куда-то вдаль улицы. Пациентка на этой же сессии показывает мне фотографию другого места, в котором она чувствует себя комфортно и безопасно. Это морской порт, окруженный по периметру портовыми кранами. Замкнутость пространства здесь, наоборот, оказывается спасительной.
Анализ пациентов с типичными паническими атаками показывает, что частые позывы на мочеиспускание, по сути, являются способом нанести разметку в пространстве, которое воспринимается бесконечным и пугающим. Пациенты составляют своеобразную дорожную карту, фиксируют, в каких местах есть туалеты и возможности выхода. Конечно, особенно опасными выглядят неисследованные и необжитые пространства.
В работе реляционного аналитика нет полного отказа от своей субъектности, а есть лишь ее предоставление в частичное пользование пациенту.
В некотором смысле пациент, подверженный паническим атакам, буквально проживает то, что обычно нашим сознанием не схватывается — многомерность пространства, то есть выход за пределы евклидовых координат. Течения психического времени это также касается — оно меняет свой привычный ход. Отмечается резкое замедление в сочетании с мучительной спешкой вследствие потребности как можно быстрее покинуть текущее местоположение; исчезают проспективные и ретроспективные характеристики времени, что усиливает подступающее ощущение бесконечности. Пациент К. недавно рассказал мне о том, как он гулял со своей девушкой по парку. Внезапно он поймал себя на воспоминании о том, что примерно год назад осенью он также медленно шел по другому парку, также накрапывал дождь, а на душе у него было тоскливо. Вспомнив об этом, он тут же почувствовал нарастающую тревогу, переходящую в панику; возникло ощущение, что все это повторяется, пришла в голову мысль о том, что ему снова может стать также плохо, как и тогда. Дорожка, по которой они шли, стала казаться ему мучительно бесконечной, захотелось как можно быстрее оказаться у себя дома. Пациент С. описывает свои панические состояния так: «я выхожу из дома, вижу камни, разбросанные по дороге; что-то заставляет меня начать их пересчитывать, но их слишком много, и я понимаю, что не смогу этого сделать; внимание переключается на оттенки их цвета, на количество граней у каждого камня; я чувствую необходимость удержать все это в своей голове, и тут на меня наплывает разъедающая смутная тревога, голова становится совершенно пустой, без единой мысли».
Бессознательное перестает быть проявлением изолированной психики пациента и становится продуктом коммуникации между ним и самим аналитиком. Это, безусловно, можно назвать завоеванием современного психоанализа.
Это остается непрописанным у Д. Мельтцера: его клауструм — это, по сути, зона женского тела с очерченными контурами — именно этим видением определяются основные содержания тревоги пациентов. Он обсуждает постепенное формирование пространственных ощущений, но как бы ни были интересны его мысли об адгезивной проективной идентификации и постепенном увеличении размерности жизненного пространства в процессе развития ребенка, само пространство у него получает статус максимум четырехмерного, включающего временной параметр. Связь с проблемой бесконечности им не рассматривается, что заметно снижает герменевтический потенциал его основного концепта. Д. Мельтцер в некотором роде сам остается внутри этого телесного вместилища, ограничиваясь исследованием фантазматической активности младенца. Даже описывая проблему зональной спутанности, он не покидает границ телесного и остается далек от понимания истинных механизмов продуцирования тревоги у современного субъекта.
Аналитик выступает в качестве взращивающей среды, собирающей фрагментированную самость пациента.
Попробуем посмотреть на это другой стороны, как предлагает это сделать А. Смулянский. Вся речь в момент высказывания в современной западной культуре уже полностью дана. В некотором смысле уже все сказано — везде обнаруживаются тривиальные формы самых сложных и глубоких мыслей. Любая дискуссия неизбежно сводится к банальности. Все истины уже находятся в доступе, они «уже у нас на языке» из-за постоянной циркуляции в масс-медиа. Пусть они представляют собой небольшие выдержки, цитаты или ссылки, они в любом случае в наличии у берущего слово. Отсюда эффект повторяемости, отсюда скука и ощущение «уже слышанного». Безмерность речевого пространства — удел современного субъекта. В этом океане становится жизненно необходимо формирование своей «идеологии» как опоры для субъектности.
В кабинете у психоаналитика разговор может быстро зайти в тупик: в каком-то смысле пациент уже все знает: любая интерпретация тривиальна, даже остановка сеанса в лакановском анализе. Для того, чтобы пациенту не стало скучно, чтобы у него не возникло ощущения «уже слышанного», должны сложиться особые условия контакта, иными словами, — должен возникнуть перенос. Истина приходит оттуда, откуда мы ее уже ждём. Чаще откуда угодно, только не от нас самих. Перенос — это истина, в первую очередь, в горгиевском понимании. Нужно подобрать зелье, чтобы речь проникала внутрь и оказывала терапевтический эффект. Здесь мы в сфере суггестии, но в отличие от директивных форм гипноза с фигурой психоаналитика происходит совсем другое — он должен незаметно исчезнуть. Гипнолог завладевает сознанием пациента, которое добровольно отдаёт себя его руководящему слову. Психоаналитик же «уходит», отказывается от своего слова, то есть, присутствует, не присутствуя, говорит он или молчит — это не так важно. Важно то, что он, мимикрируя, полностью настраиваясь на волну пациента, создает принципиальный эффект переноса: пациент не различает более свою и чужую речь, но происходит это незаметно для него самого. В этом случае только и возможно обнаружение пациентом «истины». Только так можно избежать мучительного чувства дурного повторения, вопреки тому, что психоаналитический процесс повторениями переполнен. Только так можно ускользнуть от осознания банальности произносимых психоаналитиком интерпретаций. Иными словами, если нет переноса, если психоаналитика слишком много, пациент очень быстро начинает понимать, что все интервенции могут быть сведены к паре-тройке довольно простых идей, повторяющихся и склоняемых на все лады в социальных сетях. Все уже сказано — экстракт любой теории уже здесь.
Преобладающий в настоящий момент взгляд на взаимодействие в паре «аналитик-пациент» не дает возможности соприкасаться с бесконечностью в бессознательном, то есть видеть в нем особое пространство с неуклонно увеличивающейся размерностью.
Каким же образом должна «работать» абстиненция психоаналитика, понятая не как его молчание, недоступность и эмоциональная нейтральность, а, скорее, как готовность полностью отказаться от всего своего в пользу другого? Этот радикальный шаг отступления не имеет ничего общего с непроницаемостью. Наоборот, то, что реляционный анализ называет инновационным (раскрытие аналитика), должно являться неотъемлемой частью аналитического процесса в принципе. Это трудно выразимая особая подстройка, умение совпадать с пациентом. Другой, как абсолютная инаковость, одновременно и уязвимая, и довлеющая, требует только одного — полного отказа от себя и подлежания. В этом случае создаются условия для того, чтобы речь аналитика стала оплодотворяющей, и ей было позволено произвести изменения во внутреннем мире пациента. Оплодотворяющей, значит, нетривиальной, раскрывающейся веером смысловых оттенков, порождающей ощущения неожиданности и новизны. Иными словами, это избегание клауструма — здесь, кстати, можно заставить по-новому работать концепт Д. Мельтцера, — то есть, избегания однообразия, повторяемости, замкнутости контура вербального контакта, банальности и примитивности. Аналитик не может всего этого сделать, проявляя профессиональное усердие, это может сделать только сам пациент, который остаётся в кабинете наедине с самим собой.
Сама идея телесности с неизбежностью ограничивает размерность психоаналитического пространства и не дает нам видеть невидимое глазом в опыте взаимодействия с пациентом.
Клауструм возникает там, где аналитика слишком много, и дело не в количестве слов, которые он произносит. Речь идет именно об излишке присутствия собственного Я аналитика, который ведет работу в духе классического анализа переноса: например, опрашивает пациента на предмет имеющейся, но якобы тщательно скрываемой агрессии пациента к аналитику, или активно связывает различные паттерны реагирования пациента со своей персоной. В этом случае создаются условия для клаустрофобической ситуации вместо высвобождения новых смыслов. Клаустрофобической является не та ситуация, в которой работает жесткая цензура, скорее, наоборот — ограничительная рамка, как правило, способствует возникновению творческого импульса и поддерживает его энергию как раз за счет сковывания и давления. А вот настоящий клауструм возникает там, где может быть сказано все, где одно переплетается с другим, где все стремится к упрощению и легкому усвоению. В таком случае речь вынуждена вырабатывать самоцензуру, подчинять себя акту высказывания, который определенным образом ее организует и толкает на поиск своего же «идеологического» основания. Ужас перед неприручаемой бесконечностью — вот удел нашего нового секулярного мира. Ужас перед речью, которая дана вся сразу и целиком, в которой уже не ощущается никакой тайны — у такой речи не может быть иного удела, кроме как ее редукции к прописным истинам. В них она, наконец, нейтрализуется и становится безопасной, заходя на уже хорошо знакомый круг. Иными словами, клауструм возникает там, где речь, освобожденная от любых ограничений, пытается ограничить себя сама. Вот тогда она, хорошо знакомая с пугающей бесконечностью, оказывается в настоящей ловушке. Психоаналитическая ситуация — это возможный выход из клаустрофобической западни при условии, что в процессе не будет поддерживаться психологическая игра, затягивающая пациента в воображаемую борьбу с собственным Я психоаналитика.
Если нет переноса, если психоаналитика слишком много, пациент очень быстро начинает понимать, что все интервенции могут быть сведены к паре-тройке довольно простых идей, повторяющихся и склоняемых на все лады в социальных сетях.
Если речь, отмеченная печатью безмерного, в наших современных реалиях особенно тяготеет к мучительному поиску своих собственных границ и своего индивидуального «идеологического» базиса, нам необходимо думать о том, какие психологические условия могут этому способствовать, и каков вектор психоаналитического процесса в таком случае? Большую часть времени пациент с неизбежностью получает в обратных сообщениях аналитика общие, заранее известные, банальные мысли. Но они хотя бы иногда должны преломляться в сознании пациента как что-то новое, нежданное, может быть, даже сопровождающееся эффектом «открывшейся истины». То есть, говоря словами З. Фрейда, психоаналитик нужен прежде всего для того, чтобы стать своеобразным тиглем, в котором медь суггестии действительно переплавляется в золото анализа. Это возможно только в том случае, если аналитик исчезает из своей собственной речи, если он сам, в некотором смысле, в ней больше не содержится.
В некотором смысле пациент, подверженный паническим атакам, буквально проживает то, что обычно нашим сознанием не схватывается — многомерность пространства, то есть выход за пределы евклидовых координат.
Психоаналитик, понимающий перенос и абстиненцию классическим образом, наоборот, способствует сохранению инертности повторений в силу той воображаемой путаницы и персекуторной тревоги, которые он поддерживает своими интервенциями, заранее истолковывая происходящее в кабинете как продолжение борьбы с доэдиповыми или эдиповыми «объектами». Аналитик постоянно присутствует либо в своем упорном молчании, либо в интерпретациях, в которые включена атрибуция его собственного Я. Так или иначе, его всегда слишком много, особенно в тишине — никакого отношения к истинной абстиненции не имеющей. Это излишнее присутствие является основным препятствием для функционирования переноса, который должен приводить пациента к двум основным эффектам: во-первых, аналитик становится инстанцией, которая позволяет редуцировать тревогу пациента, ограничивая его речь, теряющуюся в бесконечности смыслов, — это, собственно, и есть работа суггестивного измерения переноса. Во-вторых, пациент вбирает в себя прописные истины о самом себе, но они, несмотря на свою тривиальность, работают на расширение смыслового горизонта и множатся, порождая новые ассоциативные линии и обогащая внутренний мир пациента. Это может случиться только в случае полного и безопасного «исчезновения» аналитика то есть, в случае установления истинного переноса — буквально — «переноса» пациента на место аналитика и наоборот — один вместо или за другого. Дело в том, что подобная «аннигиляция» в некотором смысле уже подготовлена лежащей в основе человеческого общения способности мимикрировать, своего рода биологическим базисом привязанности и эмпатии.
Безмерность речевого пространства — удел современного субъекта. В этом океане становится жизненно необходимо формирование своей «идеологии» как опоры для субъективности.
Вопрос об абстиненции аналитика на сеансе должен ставиться радикально. Как можно перестать на нем быть? Очевидно, что сокрытие себя за стеной собственного молчания является всего лишь прекрасным способом выставить себя напоказ, привлечь к себе внимание. Поразительно, что аналитики и сейчас продолжают верить в то, что, если они укрылись одеялом, их никто не заметит. Поразительно и то, что те же аналитики приписывают своему псевдоисчезновению разнообразные терапевтические эффекты, не до конца понимая, что в действительности в психоанализе способствует излечению пациента. Аналитик может и должен исчезать на сеансе только одним способом: так, чтобы от него ровным счетом ничего на этом сеансе не оставалось. К молчанию это никакого отношения, конечно, не имеет. Но зато вышесказанное имеет прямое отношения к тому, что мы именуем переносом. Воздержание аналитика — это не воздержание от своей речи и уж тем более не от своих эмоций. В молчании аналитика ничего кроме тоски и паранойи пациента родиться не может, хотя сами аналитики упорно продолжают настаивать на благом воздействии своего воздержания. Мол, пусть бы и паранойя, зато после ее проработки, пациент с неизбежностью возродится к новой, свободной от страха преследования, жизни.