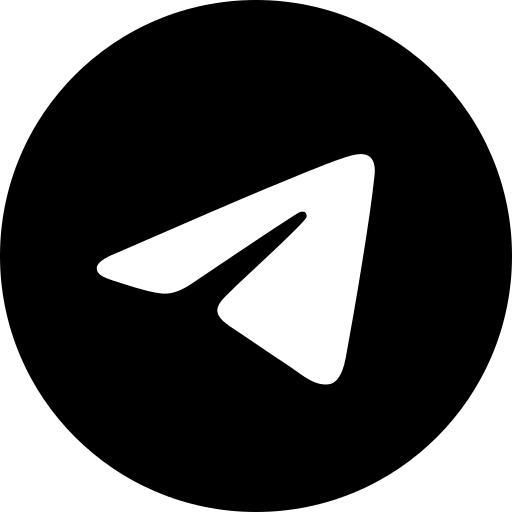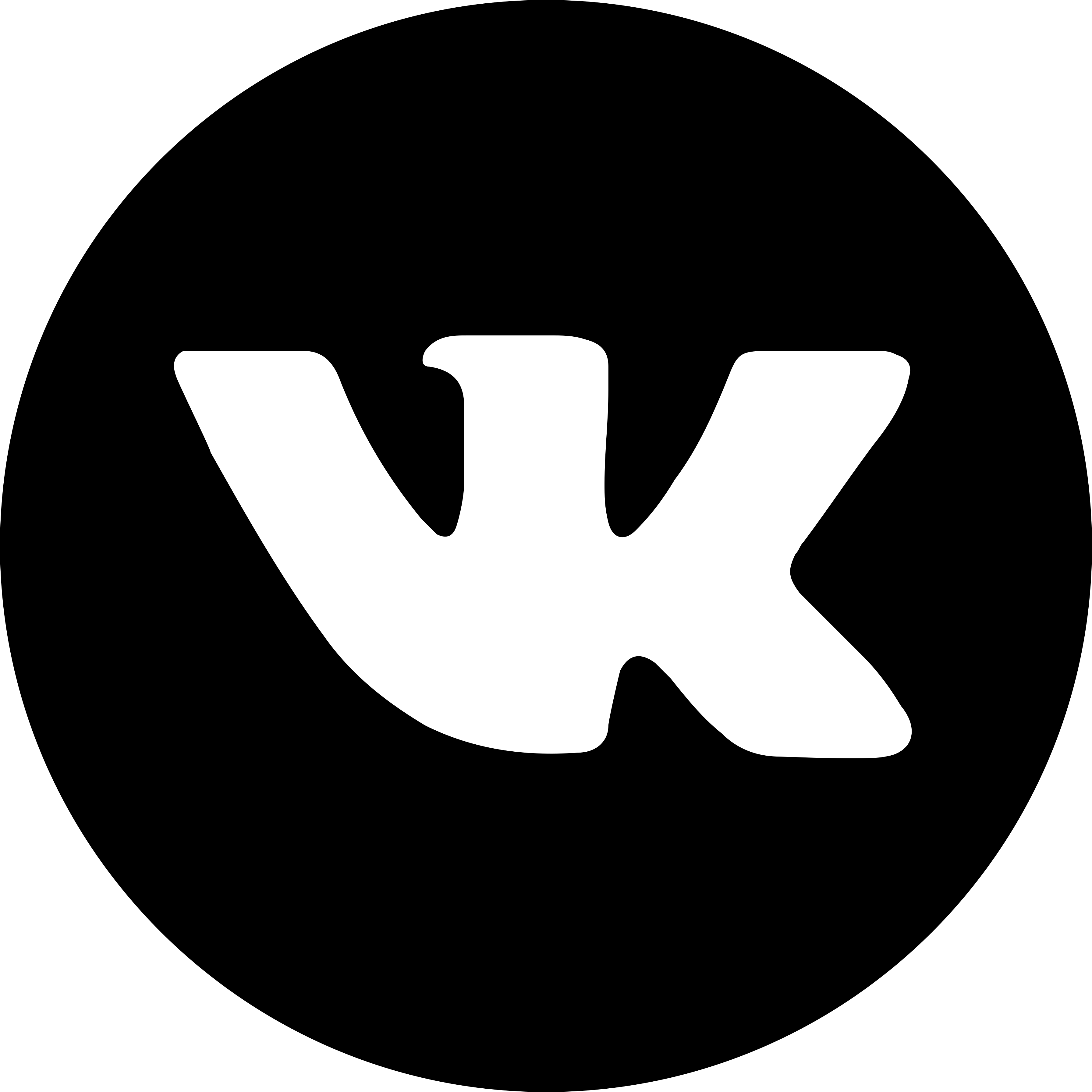- Венгерский психоаналитик
- Автор книги «Психоанализ детской»
Перепечатано из международного журнала «Психоанализ и Образ 24», 1939 г. Частично опубликовано на венгерском языке под названием «Развитие любви и чувства реальности» («Связь между любовью к единству и реальным единством») в «Исследованиях по анализу души», Будапешт, 1933.
Отношения между ребенком и матерью всегда были в центре психоаналитического интереса. Их значение возросло еще больше, когда возникла необходимость в регулярном аналитическом исследовании наших случаев вплоть до доэдипального периода. Эти отношения имеют высшую практическую и теоретическую значимость как самые ранние объектные отношения, истоки которых восходят к тем туманным временам, когда границы между эго и внешним миром еще сливаются. Поэтому вполне очевидно, что почти каждый из нас пытается решить проблемы, связанные с отношениями матери и ребенка. Мой вклад в эту тему, по существу, является попыткой обобщения, и я могу претендовать на некоторую оригинальность только в отношении точки зрения, с которой и проводится это обобщение.
I
Несколько клинических примеров могут служить отправной точкой. Я начну со случая, в котором любовь к матери была выражена особенно своеобразно. Речь идет о пациентке, главная беда которой заключалась в том, что она была рабыней своей матери. Ее безуспешные попытки освободиться вскоре обернулись реакцией разочарования, ибо на самом деле она любила свою мать и шла на огромные жертвы, чтобы удовлетворить ее, чего ей никогда не удавалось.
Особо примечательным было то, что дочь была совершенно беспомощна перед абсолютно необоснованными обвинениями матери и реагировала с чувством вины, которое сама не могла объяснить. Первое объяснение этого чувства вины возникло из-за необычайно сильного комплекса маскулинности пациентки.
С начала анализа было понятно, что она хочет заменить отца (и щедрого любовника) овдовевшей матери. Первые годы анализа были почти полностью заполнены проработкой желания быть мужественной. В конце этой фазы анализа отношения с матерью уже значительно улучшились.
Пациентка получила вполне обычную свободу передвижения, могла приходить и уходить из дома по своему усмотрению и вела личную жизнь, как и подобает взрослому. В сфере сексуальности тоже произошли изменения к лучшему. Способность испытывать оргазм, хотя и очень нестабильный вместо прежней полной фригидности и повторяющиеся, хотя и прерванные, беременности тоже указывали в сторону утверждения женственности.
Но, несмотря на все облегчения, страх, тревога и чувство вины перед матерью оставались такими же сильными, как и прежде. Дальнейший анализ желаний смерти, направленный против матери, в конечном итоге привел к раскрытию более глубоких корней чувства вины пациентки.
Она требовала от матери в высшей степени безусловной самоотверженности. Она любила свою мать как единственного человека, который, по крайней мере бессознательно, допускал возможность такого требования.
На самом деле оказалось, что желание смерти отнюдь не проистекало из ненависти к матери. Скорее, эта ненависть служила вторичной рационализацией гораздо более примитивной установки, согласно которой, пациентка просто хотела, чтобы мать «была рядом» или «отсутствовала» по мере необходимости. Мысль о смерти матери наполняла ее самыми теплыми чувствами по отношению к ней, смысл которых заключался не в раскаянии, а в следующем: «Как хорошо, что ты умерла, как же я люблю тебя за это».
Таким образом, чувство вины пациентки оказалось в конечном итоге реальным именно из-за этой любви, которую она испытывала к матери. Это была любовь, которой, вероятно, можно было бояться, и которая так же в достаточной степени объясняла, почему сама пациентка никогда не хотела иметь детей. Мы обнаружили в ней глубокую убежденность в том, что долг любящей матери – позволить себя убить, если это необходимо, ради блага своих детей. Другими словами, мы обнаружили в этой «дочери плохой матери» то, что она требовала от матери в высшей степени безусловной самоотверженности.
Она любила свою мать как единственного человека, который, по крайней мере бессознательно, допускал возможность такого требования. Как попытки пациентки освободиться, так и ее усилия удовлетворить мать приобрели теперь еще одно значение. Очевидно, они служили конктркатексисами, с помощью которых она поддерживала подавление своей примитивной формы любви.
В то время, как пациентка позволяла матери использовать себя, она также пыталась черпать силы из ненависти к той беспощадной безжалостности, которой она так завидовала в своей матери.
Кроме того, важность идентификации с мужем (любовником) матери также стала ясно осознаваться только сейчас. С одной стороны, как уже говорилось ранее, это отождествление служило удовлетворению желания быть мужественной, но с другой стороны, однако, являлось выражением любовных притязаний пациентки в перевернутой форме. Точно так же, как мужчины любили мать, она хотела, чтобы мать любила ее. И так же безжалостно, как та использовала мужчин и бросала их, как только они становились бесполезными (старыми или больными), она также хотела воспользоваться матерью и избавиться от нее, когда ей это было удобно.
Таким образом, в то время как пациентка позволяла матери использовать себя, она также пыталась черпать силы из ненависти к той беспощадной безжалостности, которой она так завидовала в своей матери. Этот глубочайший пласт отношений к матери нельзя понимать как амбивалентность в собственном смысле этого слова. (Точно так же, как мы не можем сказать об охотнике, что он ненавидит дичь, которую стремится убить.)
Маленькая девочка, которая думает, что мать должна умереть спокойно, чтобы она могла выйти замуж за отца, поначалу ни в коем случае не ненавидит свою мать, но находит вполне естественным, что дорогая мама исчезает в нужный момент.
Когда дети с самым невозмутимым видом в мире говорят о желанной смерти любимого человека, было бы, конечно, неправильно всегда объяснять это ненавистью, особенно если речь идет о матери или материнской фигуре. Маленькая девочка, которая думает, что мать должна умереть спокойно, чтобы она могла выйти замуж за отца, поначалу ни в коем случае не ненавидит свою мать, но находит вполне естественным, что дорогая мама исчезает в нужный момент. У идеальной матери просто нет корыстных интересов. Подлинная ненависть, а следовательно, и подлинная амбивалентность[1], может гораздо чаще развиваться в отношениях с отцом, которого ребенок в большинстве случаев с самого начала узнает, как существо, имеющее собственные интересы, т.е. корысть.
Следующий случай касается 21-летнего пациента-гомосексуалиста, который, в первую очередь, жалуется на неспособность найти кого-то, кто бы любил его. Постепенно выясняется, что он сам не может любить (в социальном смысле).
Мы узнаем, как мало он знает о людях, с которыми вступает в гомосексуальные контакты и к нежности которых, тем не менее, предъявляет чрезвычайно высокие требования.
Его безразличие к другим людям становится очевидным и за этим скрывается стремление предъявлять к любому незнакомцу те же претензии на безвозмездную любовь, которые маленький ребенок предъявляет к матери.
Суть родительского долга заключается в том, что родители не должны ничего требовать от ребенка, поскольку они выполняют свой долг, подчиняясь лишь давлению общественного мнения, заботясь о ребенке, независимо от того, плохой он или хороший.
В этом слое нам становится ясно, что он ни в коем случае не хочет быть любимым, в смысле любить и быть любимым, как взрослые. Партнер, который любит его, пугает его своими претензиями. В конце концов, он начинает желать того, кто осыпает его подарками не из любви – потому что влюбленные эгоистичны, – а из чувства долга перед кавалером. Вскоре выясняется, что «долг кавалера» на самом деле представляет собой «родительский долг». Суть родительского долга заключается в том, что родители не должны ничего требовать от ребенка, поскольку они выполняют свой долг, подчиняясь лишь давлению общественного мнения, заботясь о ребенке, независимо от того, плохой он или хороший.
Это удобные «любовники». Нетрудно распознать в этой маскировке примитивный тип любви маленького ребенка, который еще не знает мать как существо со своими личными интересами и которого ничто не принуждает к этому осознанию. Позже, когда мать требует что-то взамен своей любви, ее воспринимают как помеху и отвергают: «Я совсем не хочу, чтобы меня любили», - как бы упрямо говорит ребенок. Но на самом деле это звучит так: «Почему меня больше не любят так (т.е. бескорыстно), как раньше?»
Термин «нарциссизм», в первую очередь, отражает сильную объектную ориентированность любви, а термин «пассивная объектная любовь» (желание быть любимым) недостаточно соответствует ее активности.
Третий случай, о котором я хочу упомянуть, открывает тот же страх перед любовью или, скорее, перед требованиями партнера по любви. Пациенту снится следующий сон:
Войдя в свою квартиру, он видит в центре комнаты большой тубус. Он ложится на него, как на кровать. И тут тубус становится также кроватью (или диваном), но вскоре превращается в старуху, издающую сладострастные хрюкающие звуки. Это вызывает у пациента отвращение, и он слазит с нее несмотря на то, что она пытается его удержать.
Текущим поводом для сновидения является наблюдение за тем, как его мать нянчится с внуком и хочет всего этого для себя. С сильным неодобрением он признает в ее действиях подавленный эротизм и в то же время стыдится собственной ревности. Но за ревностью и рядом с ней стоит жалость к маленькому племяннику, которого ждет та же участь, что и его. Он тоже однажды захочет уйти от бабушки и она будет держать его так, как держала его, сына. Сон, конечно, очень многослойный и, помимо прочего, дает некоторые ключи к разгадке страхов пациента перед кастрацией.
Наиболее важным для нашей темы является возмущение, с которым пациент обнаруживает эротизм в материнской любви. До сих пор, критикуя поведение матери, он думал о непонимании, но не об эгоизме. Теперь она станет для него ворчливой старухой, которой сын нужен только для собственного удовольствия. На самом деле, у него такое же отношение ко всем женщинам. Его смущает и пугает сексуальная потребность женщины. Женщина должна желать, но не требовать. Он предпочитает подходить к ней как к плачущему ребенку, который хочет, чтобы его пожалели и обняли. Брак не одобряется, потому что он приносит женщине выгоду, и в этом случае он больше не может верить в ее любовь.
Во время лечения аналитик для пациента не такой человек, как другие – то есть человек с отсутствием личных интересов.
Взаимность требований так же непонятна ему, как маленькому ребенку, живущему в качестве эктопаразита матери. Основным симптомом этого пациента является любовь к совсем маленьким девочкам, которая также может быть представлена непристойными детскими изображениями. Дети, с которыми он обращается как с куклами, о чувствах которых ему не нужно заботиться, на самом деле имеют материнское значение. Это настоящие, бескорыстные объекты любви.
Во всех трех случаях описанное отношение к объекту любви в ходе аналитической работы интерпретировалось по-разному: как склонность к оральному поглощению, как нарциссическое поведение, как желание быть любимым, как эгоизм, поскольку именно это влекло за собой соответствующий материал.
Все дело в любви, в той архаичной любви, основным условием которой является совершенная гармония интересов. В случае этой любви нет необходимости признавать существующий объект любви, поскольку он или она хочет того же, что и я.
Но, в конце концов, точка зрения, высказанная в моих описаниях случаев, показалась мне наиболее оправданной. Тенденция к оральному влечению появилась как особая форма выражения этой любви, которая могла быть более или менее выражена.
Термин «нарциссизм», в первую очередь, отражает ее сильную объектную ориентированность, а термин «пассивная объектная любовь» (желание быть любимым) недостаточно соответствует ее активности. Ближе всего здесь подходит понятие эгоизма. Это был архаичный, эгоистичный и изначально присущий только матери способ любви, главной характеристикой которого являлось отсутствие чувства реальности в отношении интересов[2] объекта любви. Я называю этот эгоизм, являющийся на самом деле лишь следствием отсутствия чувства реальности, наивным эгоизмом[3] в противоположность сознательному пренебрежению интересами объекта.
Особенно ясную картину любви к матери мы получаем, на мой взгляд, из определенных, совершенно общих явлений переноса, которые в любом случае, независимо от возраста, пола и формы болезни, можно обнаружить даже у практически здоровых кандидатов-анализандов.
Еще одна особенность архаичной любви – псевдоамбивалентность. При таком примитивном объектном отношении возможность различного поведения по отношению к объекту не является результатом различных эмоциональных установок (любви, ненависти), а коренится в наивном эгоизме маленького ребенка.
Я описала эти явления переноса в своей лекции об обращении с переносом[4] как параноидально чувствительное и при этом безжалостно эгоцентричное поведение, поддержание которого возможно с помощью характерной слепоты по отношению к личности аналитика. Во время лечения аналитик для пациента не такой человек, как другие - то есть человек с отсутствием личных интересов. Это понимание регулярно возникает постепенно только в период сепарации. Я хотела бы добавить еще один пример к этому общему описанию.
Пациент выражает желание проводить еще одну дополнительную встречу еженедельно. Желание оправдано, так как из-за нехватки времени он приходит на лечение только четыре раза в неделю. Несмотря на это, я пока веду себя пассивно и ограничиваюсь анализом этого желания, что помогает нам получить ценную информацию об эмоциональном мире пациента. Желание провести еще час оказалось признанием в любви со стороны пациента с очень подавленным аффектом. Но в то же время оно означает и защиту от осознания возникающего эмоционального возбуждения. Он хотел встречаться еще один час, чтобы не чувствовать тоски, в которой скрывалась его любовь. Так что на самом деле, он хотел, чтобы в этот час встречи он не испытывал ко мне любви, что он также очень подробно объяснил мне по этому поводу. Больше всего его смущала мысль о том, что, возможно, у меня не будет для него времени, а значит, наши интересы расходятся.
Большинство людей, даже если они в остальном нормальные и вполне принадлежат к так называемому «взрослому» типу, бескорыстно учитывая интересы своего партнера, все же сохраняют в себе описанное наивно-эгоистическое отношение к собственной матери на всю оставшуюся жизнь.
Он хотел быть со мной, но, по возможности, не зная обо мне. Было бы разумно рассматривать это поведение как нарциссическое отстранение либидо в тот момент, когда напряжение желания в определенной степени превышает норму. Но, с другой стороны, его желание, несомненно, было признанием в любви. Однако наиболее правильным казалось предположить, что здесь все дело в любви, в той архаичной любви, основным условием которой является совершенная гармония интересов.[5] В случае этой любви нет необходимости признавать существующий объект любви, поскольку он или она хочет того же, что и я. Я считаю это незаметное само по себе наблюдение ценным, поскольку, возможно, оно раскрывает нам некоторую природу той субъективной самодостаточности, которую мы предполагаем в удовлетворенном младенце.
Еще одна особенность архаичной любви – псевдоамбивалентность. При таком примитивном объектном отношении возможность различного поведения по отношению к объекту не является результатом различных эмоциональных установок (любви, ненависти), а коренится в наивном эгоизме маленького ребенка. В наивном эгоизме совсем не замечается противоречие собственных интересов и интересов объекта. Если, например, маленький ребенок или пациент в соответствующей переносной установке думает, что мать или аналитик не должны болеть, это означает заботу не о благополучии другого, а о собственном благополучии, которое находится под угрозой из-за болезни другого.
Неоспоримый факт психогенного бесплодия говорит о том, что рожденный ребенок всегда является ребенком, которого хотела мать.
То, что это действительно так, видно из того, как недружелюбно реагируют люди на начало пугающей болезни. Но должны ли мы сомневаться поэтому в любящем характере этого поведения? После многомесячной болезни у меня была хорошая возможность изучить этот вопрос. Все пациенты без исключения злились на меня, потому что чувствовали себя ущемленными тем, что я была больна, что полностью соответствовало действительности. Их злость была самым сильным выражением детской любви и привязанности. Здесь также следует отметить, что слово «привязанность», как и соответствующее ему венгерское слово «ragaszkodás» (прилипчивость, настойчивость) для обозначения детской любви, являются прекрасным примером бессознательного знания.
Хотя я не сомневаюсь, что каждый в описанном типе любви признает особую форму любви, относящуюся именно к матери (я лишь повторила общеизвестное), я все же хотела особо подчеркнуть наблюдение, что большинство людей, даже если они в остальном нормальные и вполне принадлежат к так называемому «взрослому» типу, бескорыстно учитывая интересы своего партнера, все же сохраняют в себе описанное наивно-эгоистическое отношение к собственной матери на всю оставшуюся жизнь. Для всех нас остается очевидным, что интересы матери и ребенка идентичны, и общепризнанным показателем хорошести или плохости матери является то, насколько в действительности она ощущает эту общность интересов.
Прежде чем я оставлю эту тему и перейду к обсуждению материнской любви, я хотела бы вернуться к одному замечанию относительно любви к отцу. Хотя отец семейства в значительной степени унаследовал материнские черты и поэтому во многих отношениях рассматривается ребенком как мать, в отношениях с ним все же отсутствуют те архаичные узы, которые связывают ребенка с матерью. Ребенок знакомится с отцом уже под влиянием чувства реальности. Такие общие наблюдения, как то, что дети обычно более послушны отцу, чем матери, не всегда могут быть объяснены тем, что отец часто бывает более строгим.
Ребенок ведет себя по отношению к отцу более реалистично, потому что первопричины изначальной, естественной общности интересов в отношениях с отцом не существует. Естественно, мать не должна хотеть того, что противоречит желаниям ребенка. Однако то же самое нельзя сказать об отце. (Таким же образом можно объяснить и большую педагогическую эффективность чужих людей.) В народных сказках, по-видимому, это подтверждается и тем, что плохая мать всегда является мачехой, тогда как плохой отец не обязательно должен быть отчимом; и это касается обоих и дочери, и сына. (Кстати, еще одним доказательством архаичности описанной любви является то, что она одинаково проявляется у обоих полов, т. е. безусловно доэдипальна.)
Итак: любовь к матери изначально является любовью, лишенной чувства реальности, с другой стороны, мы любим и ненавидим отца – включая эдиповы установки – в соответствии с реальностью.
II
Перейдем теперь к материнской любви. Начну снова с примера. Одна молодая мама делится со мной своим мнением о лекции по криминальной психологии, которую она прослушала накануне. Лектор рассказал о случае с женщиной, которая, живя в несчастливом браке, в отчаянии убила двух своих дочерей и пыталась покончить с собой. Мать осталась жива и была приговорена к 15 годам тюремного заключения за убийство. Лектор счел приговор несправедливым; женщина, которая рассказала мне об этом, тоже. Но объяснение, которое она дала, показалось мне примечательным. Она заявила, что приговор был необоснованным, поскольку женщина не может считаться «опасной для общества». Она убила только своих собственных детей. По мере продолжения разговора становилось все более очевидным, что мысль о том, что детям тоже есть что сказать, даже не приходила ей в голову. Она считала все происходящее внутренним делом матери, потому что ее собственный ребенок — это все-таки не внешний мир.
Вынашивание, рождение ребенка, кормление грудью, обласкивание являются выражением влечений женщины, которые она удовлетворяет с помощью ребенка.
Наверное, мне не нужно особо подчеркивать, насколько леди была смущена, высказав вслух эти столь естественные для нее мысли. То, что она сказала, было частью архаичной реальности, которая в нашей культуре обычно проявляется только в завуалированной форме. Первобытные народы, с другой стороны, действительно считают детоубийство чем-то, что не воспринимается как убийство в собственном смысле этого слова. Это внутреннее дело семьи, общество не имеет к этому никакого отношения.
Рохайм рассказывает, что матери из Центральной Австралии, когда их одолевает «жажда мяса», делают аборт собственными руками и съедают плод. При этом он не упоминает о каких-либо угрызениях совести и тому подобном. Для этих женщин плод кажется им их собственностью в полном смысле этого слова, с которой они могут делать все, что им заблагорассудится. Мы можем, пожалуй, истолковать обычное правило для этих племен, согласно которому семья съедает каждого второго ребенка, как ограничение, обеспечивающее таким образом жизнь определенному числу детей. Мы не должны думать, что австралийские женщины обычно являются «плохими» матерями. Наоборот, они в полной мере проявляют материнскую нежность к своим живым детям. Нельзя отрицать и их готовность идти на жертвы, если учесть, что они проводят ночи, опираясь на колени и локти над своими младенцами, чтобы защитить их от холода собственным телом.
Материнская любовь — это почти идеальный аналог любви ребенка к матери.
Некоторые записи об эскимосах, кажется, указывают на переходную стадию между австралийской матерью, беззаботно поедающей детей, и нашим сознательным отношением. (Я говорю «сознательное отношение», потому что каннибалистические желания по отношениям к детям, особенно в сновидениях, вовсе не редкость.) В этих записях рассказывается, например, об эскимосской женщине, которая во время голода съела своего ребенка, но теперь парализована и не может удерживать мочу. Жители деревни предположили, что это произошло потому, что «она съела часть себя».[6] Чаще всего дети умирают от обморожения во время голода. В таких случаях люди проявляют твердость и решимость, которые поразили репортера до глубины души, поскольку он знал нежность и любовь, с которыми они обычно относились к своим детям. Эскимосы отказываются от своих детей под давлением ужасной нужды и бедствий точно так же, как мы бросаем наше самое драгоценное имущество во время кораблекрушения, чтобы спасти свои жизни.
Как мать является объектом удовлетворения для ребенка, так и ребенок является объектом удовлетворения для матери.
Важным моментом, который понятен изначально мыслящим людям и кажется чуждым лишь нашим индивидуалистическим чувствам, является тот факт, что детей можно приобретать по желанию, как и другие вещи.
Поедание детей, которое для женщины из Центральной Австралии является инстинктивным удовлетворением, не отягощенным каким-либо чувством вины, а для эскимоски — отчаянным поступком крайней меры, который может иметь ужасные последствия, но о котором скорее сожалеют, чем осуждают, появляется в венгерском фольклоре как адское наказание для тех женщин, которые делают аборт.[7]
Отношения между матерью и ребенком строятся на взаимосвязанности обоюдных целей влечения.
Факт «аборта» является особенно важным фактором в отношениях матери и ребенка. Все женщины на Земле знакомы с искусственным прерыванием беременности, поэтому в конечном итоге они решают, «быть или не быть» ребенку. (В этом обстоятельстве, вероятно, кроется один из корней жуткости матери для ребенка, жизнь которого буквально зависит от того, принимает ли его мать.) Также неоспоримый факт психогенного бесплодия говорит о том, что рожденный ребенок всегда является ребенком, которого хотела мать. Моральное осуждение или даже уголовное преследование за аборт, вероятно, является защитной мерой против опасной абсолютной власти женщин. Защитной мерой я также полагаю передачу изначально материнского права на жизнь ребенка «отцу семейства». Тот факт, что это неформальное, личное дело женщины, говорит об изначальности материнских прав. Отцовское право, с другой стороны, является социальным институтом.
Несмотря на культурные ограничения изначального права матери, рождение большинства детей, вероятно, считается реализацией материнских влечений. Вынашивание, рождение ребенка, кормление грудью, обласкивание являются выражением влечений женщины, которые она удовлетворяет с помощью ребенка.[8] Максимально продолжительный физический контакт одинаково доставляет удовольствие обеим сторонам. Я даже полагаю, возвращаясь к этнографии, что те правила, которые разлучают супругов на несколько месяцев после рождения ребенка, берут свое начало в желании женщины, которая хочет спокойно прожить отношения с ребенком.
На почве этой взаимности вырастает безграничное доверие ребенка к материнской любви, которое лишь позже будет сильно поколеблено пониманием или опытом того, что мать может разорвать эту связь сама по себе, заменив одного ребенка другим.
Мутуализм — биологический фактор, наивный эгоизм — психологический.
Материнская любовь, соответствующая ее инстинктивным корням, применима только к совсем маленькому ребенку, младенцу, прижавшемуся к телу матери. Вот почему мы так часто видим, что матери, которых культура вынуждает гораздо дольше воспитывать своих детей вплоть до совершеннолетия, считают их, какими бы большими они ни были, своими «малышами», и часто это выражается в словах и жестах. Для матери ребенок никогда не вырастет, потому что, став взрослым, он больше не будет ее ребенком. Не является ли это также примером нереалистичности материнской любви, в точности соответствующей нереалистичности детской любви, в результате чего мать никогда полностью не осознается ребенком как личность с отдельными интересами? Материнская любовь — это почти идеальный аналог любви ребенка к матери.
Реальная способность любить в социальном смысле является вторичным образованием, возникшим в результате внешнего вмешательства.
Как мать является объектом удовлетворения для ребенка, так и ребенок является объектом удовлетворения для матери. И точно так же, как ребенок не воспринимает личные интересы матери, так и мать рассматривает ребенка как часть себя, интересы которого совпадают с ее интересами. Отношения между матерью и ребенком строятся на взаимосвязанности обоюдных целей влечения. К этим отношениям в полной мере применимо то, что сказал Ференци об отношениях мужчины и женщины во время полового акта. Он имел в виду: во время полового акта нельзя говорить ни об эгоизме, ни об альтруизме. Это взаимность – мутуализм – то, что хорошо для одного, хорошо и для другого. В результате естественной взаимосвязанности обоюдных целей влечений нет необходимости беспокоиться о благополучии другого человека.
Такое поведение я называю инстинктивным материнством, в отличие от культурного.[9] Лучше всего его можно наблюдать у животных и у очень примитивных людей. Наивный эгоизм играет в нем ту же роль, что и в любви ребенка к матери. Но, рассматривая обоих партнеров (мать и ребенка) одновременно, мы, как и Ференци, можем говорить о мутуализме. Мутуализм — биологический фактор, наивный эгоизм — психологический. Биологически данная взаимозависимость делает наивный эгоизм психологически возможным. Любое нарушение этой взаимосвязи ведет к развитию за пределы наивного эгоизма.
Для ребенка было бы вполне естественно, если бы мать оставалась его сексуальным партнером и после младенческого возраста. Отказ матери может быть воспринят ребенком только как следствие разрушительного вмешательства внешней силы
Если бы единство «мать-дитя» в людях, как и в животных, сразу сменялось взрослой сексуальностью, то есть единством «мужчина-женщина», наивного эгоизма было бы достаточно в качестве способа любви на всю жизнь. Однако характерный для человека временной промежуток между периодом младенчества и совершеннолетием – то есть двумя этапами жизни, на которых существует обоюдная взаимосвязанность двух существ – порождает несоответствие, которое необходимо уравновесить. Это несоответствие, растущее с развитием культуры, в значительной степени компенсируется прогрессирующим распространением господства чувства реальности на эмоциональную жизнь.
Такт, проницательность, внимательность, сострадание, благодарность, нежность (в смысле сдержанной чувственности) — это признаки и последствия господства чувства реальности в сфере чувств.
Таким образом, реальная способность любить в социальном смысле является вторичным образованием, возникшим в результате внешнего вмешательства. Она не имеет прямого отношения к генитальности.
В конце концов, генитальный акт — это именно та ситуация, в которой возрождается взаимосвязанность, испытанная в раннем детстве. Все, что было усвоено в опыте к настоящему моменту, может сыграть важную роль в ухаживании, но должно быть забыто во время полового акта. Слишком сильное чувство реальности (тактичность), слишком явное отделение одного человека от другого действует разрушительно, считается холодностью, может даже привести к импотенции. Достаточно вспомнить страх некоторых невротиков, проистекающий из их чистоплотности, они боятся обидеть партнера запахом своего тела или непроизвольными звуками и движениями, вызывающими отвращение или раздражение.
Первое нарушение наивного эгоизма происходит, когда мать отворачивается от растущего ребенка. Это отвержение выражается либо непосредственно в действительном отчуждении, либо косвенно в том, что мать хочет каким-то образом остановить развитие ребенка. Я думаю, что нет необходимости приводить конкретные примеры по этому поводу. Для ребенка было бы вполне естественно, если бы мать оставалась его сексуальным партнером и после младенческого возраста. Отказ матери может быть воспринят ребенком только как следствие разрушительного вмешательства внешней силы. Это в полной мере относится и к животным, у которых половая зрелость почти сразу следует за младенчеством. Только сила животного-отца является препятствием для сексуального единения матери и ребенка. У людей по-другому. В этом случае сексуальная значимость ребенка для матери прекращается гораздо раньше того момента, когда ребенок становится сексуально половозрелым, то есть может быть партнером матери и во взрослом состоянии. За либидной связью следует либидное отвержение со стороны матери.
Мать уникальна и незаменима, а ребенка можно заменить другим. Мы наблюдаем повторение этого конфликта в каждом неврозе переноса.
Здесь становится ясно в чем, несмотря на многие сходства, кроется принципиальное различие между материнской любовью и любовью к матери. Мать уникальна и незаменима, а ребенка можно заменить другим. Мы наблюдаем повторение этого конфликта в каждом неврозе переноса. Относительная незаменимость аналитика по сравнению с фактической или предполагаемой легкостью, с которой аналитик заполняет свой освободившийся час, в большей или меньшей степени влияет на каждого пациента. Отстранение от матери в смысле прекращения первоначальной взаимосвязанности означает примирение с тем фактом, что мать является особым существом, имеющим собственные интересы. Ненависть к матери не является формой отстранения, а, скорее, означает продолжение связи с отрицательным знаком. Мать ненавидят, потому что она уже не та, что была. (В аналитической практике мы давно знаем, что ненависть к аналитику после завершения анализа является признаком неразрешенного переноса.)
Подведем итог: ребенок, переросший младенчество, уже не так приятен матери (мы всегда имеем в виду инстинктивное материнство), но тем не менее привязан к ней и знает только наивный эгоизм как форму любви. Однако наивный эгоизм становится несостоятельным теперь, когда отсутствует взаимность, которая была его основой. Таким образом, перед ребенком стоит задача приспособиться к желаниям тех, в чьей любви он нуждается.[10] Так начинается господство чувства реальности в любовной жизни человека.[11]
III
В заключение я бы хотела в этом контексте кратко остановиться на вопросе аутоэротизма. Мы знаем, что он первичен. Его самый важный признак, с точки зрения приспособления к действительности, – большая независимость от внешнего мира. Ребенку не приходится обучаться аутоэротическим действиям и для их осуществления не требуется помощь окружающих. Однако, их можно нарушить или предотвратить извне, но они зависимы от внутренних процессов. Как известно, отдельные формы аутоэротизма могут сменять друг друга, если тот или иной тип разрядки по каким-либо причинам становится невозможным.
Также распад либидной взаимосвязи матери и ребенка влияет на аутоэротическую функцию. Можно даже сказать, что только здесь начинается ее психологическая эффективность. В последующий период аутоэротизм, насыщенный относительной депривацией любви, приобретает значение замещающего удовлетворения. Таким образом, он становится биологической основой вторичного нарциссизма, психологической предпосылкой которого является идентификация с неверным объектом. Чем раньше прекращается младенческая гармония, тем раньше аутоэротизм приобретает эту роль в душевной жизни человека.
Вопреки мнению большинства аналитиков, я не считаю, что это – регрессия к аутоэротической стадии, а, скорее, предполагаю, что аутоэротизм и архаическая привязанность к матери сосуществуют одновременно и уравновешивают друг друга, но с самого начала являются различными факторами, которые влияют на развитие ребенка.
Различие между ними становится очевидным только тогда, когда нарушается изначальная гармония.
Так что, на мой взгляд, нет такой стадии жизни, в которой преобладал бы только аутоэротизм. Если необходимый уровень удовлетворения со стороны объектного мира не достигается, на помощь человеку приходит аутоэротизм как механизм утешения. Если лишения не слишком велики, все проходит без особой суеты. Однако, перегрузка аутоэротической функции сразу же проявляется в виде патологических симптомов: аутоэротическая активность перерождается в зависимость. Но, так же и наоборот, мы можем наблюдать, что слишком успешное подавление аутоэротизма в процессе воспитания приводит к перегрузке объектных отношений, что обычно выражается в ненормальной зависимости и патологической привязанности к матери или другим опекунам. С другой стороны, если аутоэротизм не подавляется чрезмерно, объектные отношения укрепляются до степени, желательной с точки зрения воспитанности. По-видимому, для каждой возрастной группы существует оптимальное соотношение между аутоэротизмом и привязанностью к объектам. Этот баланс достаточно эластичен, так что лишение с одной стороны может компенсироваться удовлетворением с другой, хотя оно не выходит за определенные пределы. Это обстоятельство обеспечивает развитие чувства реальности в эмоциональной жизни. Ибо человек не может отказаться от объектной любви без серьезного ущерба.[12]
IV
Типы любви выделяются в психоаналитической науке с нескольких точек зрения: во-первых, по их отношению к целевому ингибированию, во-вторых, по их принадлежности к частичному влечению и генитальности.
Я различаю способы любви по их отношению к чувству реальности.
Понятия оральной, анальной и генитальной любви возникли из одной группы, а концепции нежной и грубо-чувственной любви — из другой. Третье различие между способами любви возникло в результате сопоставления нарциссического и объектного либидо как нарциссического и объектно-либидного способов любви, которые каким-то образом также связаны с эгоизмом и альтруизмом.
Наконец, Ференци проводит различие между пассивной и активной объектной любовью, которое он использует в основном вместо распространенных выражений – нарциссической и объектно–либидной любви – не уточняя, является ли пассивно-объектная любовь синонимом нарциссической любви. Я же различаю способы любви по их отношению к чувству реальности.
Истинная объектная любовь стоит на двух столпах:
1. Удовлетворение потребностей со стороны объектного мира;
2. Чувство реальности.
1 пункт. Первое присутствует с самого начала, особенно если принять точку зрения генитальной теории, согласно которой вся сексуальность, включая аутоэротическую функцию, основана на объектно-ориентированной тенденции.
2 пункт. Последнее развивается поэтапно. На основании наблюдения за способом любви, наиболее характерной чертой которого является слабое развитие чувства реальности (признается объект, но не его собственные интересы), я полагаю, что постепенному развитию чувства реальности соответствует постепенное развитие объектной любви. Однако, параллельность этих двух линий развития не является полной. В конце концов, распространению господства чувства реальности на объектные отношения препятствуют два мощных фактора.
Как известно, одним из таких факторов является большая независимость от внешнего мира, которая в либидинозной области обеспечивается аутоэротическим (по Ференци, аутопластическим) способом удовлетворения. Второй фактор, который я выделила, – упомянутая инстинктивная взаимосвязь, которая существует между матерью и ребенком (позже между мужчиной и женщиной во время полового акта). Инстинктивная взаимосвязь двух существ создает ситуацию, в которой признание собственных интересов объекта является излишним. Это становится основой наивного эгоизма в области объектного либидо.
Понятие первичного архаического объектного отношения, лишенного чувства реальности, я получаю путем экстраполяции. Это последнее звено в ряду различных степеней приспособления к реальности в области объектных отношений. В соответствии с этим возникает архаический вид любви, сущность которого определяется не каким-либо частичным влечением, а отсутствием чувства реальности по отношению к объекту любви. (Во избежание недоразумений я хотела бы подчеркнуть, что мы должны строго различать виды удовлетворения, например, оральное, анальное и т. д., и виды любви, например, наивно-эгоистическую, альтруистическую и т. д.). С другой стороны, возникновение социально более высших способов любви рассматривается как результат адаптации к реальности.
Эта классификация очень близко связана с фрейдовским различием между грубо чувственной и ингибированной любовью, поскольку торможение по отношению к цели является наиболее важным из внешних факторов, которые приводят к развитию эмоциональной жизни; в то время как чистая чувственность знает только «эротическое чувство реальности» и может довольно хорошо сочетаться с наивным эгоизмом по отношению к партнеру.
Момент, в котором мой ход мыслей частично расходится с фрейдовским, заключается в оценке роли либидинозных объектных отношений в этом контексте. Фрейд также связывает возникновение объектной любви с незаменимостью внешнего мира, но в основе этой незаменимости лежат, в первую очередь, не эротические влечения, а инстинкты самосохранения. Вследствие удовлетворения инстинкта самосохранения возникают первые объектные отношения, но вскоре они сменяются аутоэротическим приспособлением либидо. Только после этого обходного пути через аутоэротизм либидо в ходе дальнейшего развития возвращается в объектный мир. Фрейд предполагает, что только некоторые компоненты сексуального влечения изначально имеют внешний объект и сохраняют его, в том числе влечение к власти (садизм) и влечение к наблюдению и познанию.[13] После дополнения теории либидо теорией первичного нарциссизма «аутоэротизм предстает как сексуальная активность нарциссической стадии размещения либидо», причем эта нарциссическая стадия, как известно, рассматривается как первичная.[14]
Опираясь на явления, которые еще можно наблюдать, я попыталась представить эту самую изначальную стадию как архаическое объектное отношение, лишенное чувства реальности, из которого под влиянием реальности непосредственно развивается то, что мы привыкли называть любовью. Мое мнение можно довольно просто выразить с помощью понятий Я и Оно.
Архаическая любовь без чувства реальности была бы именно способом любви, связанным с Оно, которая сохраняется как таковая на протяжении всей жизни, в то время как социальные и соответствующие реальности формы любви представляют собой способ любви, связанный с Я.[15]
Дополнение
Дуальное единство (двуединство) и первичное (архаическое) объектное отношение. В некоторых дискуссионных комментариях мне предлагалось отказаться от обозначения «первичное объектное отношение» в пользу терминов «двуединство» и «дуальное единство». Однако, я полагаю, что для общего понимания гораздо выгоднее и лучше, если даже небольшие расхождения во взглядах будут выражены в терминологии.
И. Германн, Э. П. Хоффманн и Л. Роттер-Кертеш прямо подчеркивают, что они не рассматривают дуализм как какое-либо объектное отношение. С другой стороны, я действительно думаю о возможности примитивного объектного отношения, которое имеет место до появления способности различать «Я» и «объект», то есть, существует уже в Оно.
Отправной точкой моего хода мыслей является хорошо известная концепция Ференци пассивной объектной любви. В моей книге на ту же тему, посвященной памяти Ференци, я все еще использую это выражение. Позднее, отчасти под влиянием мыслей М. Балинта о «новом начале», в которых он подчеркивал важность активации детского поведения; отчасти под влиянием выводов Германна о влечении к привязанности, я почувствовала, что термин «пассивный» не подходит для обозначения отношений, в которых очень активные тенденции, такие как влечение к привязанности, играют главную роль. С тех пор, как и в настоящей работе, я использую термин «архаические» или первичные объектные отношения (объектная любовь) вместо термина «пассивная объектная любовь».
Я могла бы изменить это последнее обозначение на «двуединство» или «дуальное единство» только в том случае, если бы те, кто употребляют его, изменили бы свое прежнее представление о том, что они склонны рассматривать дуальное единство как примитивное объектное отношение, или если бы я отказалась от мысли, что объектные отношения настолько же стары, насколько и их биологическая основа.
[1] Настоящая ненависть – это чистая агрессия; Псевдоненависть – это требование самоотверженности со стороны объекта, которое всегда изначально предъявлялось матери.
[2] Под этим я подразумеваю как либидинальные, так и эго-интересы объекта.
[3] «Можно быть абсолютно эгоистичным и при этом поддерживать сильный либидинальный катексис объекта...» Фрейд: Лекции по вводному психоанализу, гл. ХХVI. Теория либидо и нарциссизм. Том VI, стр. 432.
[4] Элис Балинт: Использование переноса на основе экспериментов Ференци. Международное периодическое издание Психоанализа, Том XXII, 1936.
[5] Другой пациент, также с сильно подавленным аффектом, однажды в конце встречи сказал: «С нами все кончено».
[6] Расмуссен: «Тулефарт», 1926, стр. 358
[7] «Этнография венгров» (Фольклор венгров), том IV, стр. 156
[8]Смотри концепцию «Родительского эротизма» С. Ференци в его «Попытке создать генитальную теорию». Международное издательство Психоанализа, Вена, 1924
[9] О «культурном» материнстве см. Элис Балинт: Основы нашей образовательной системы. Международное периодическое издание Психоанализа, Педагогика, Том XI, 1937
[10] Затянувшееся младенчество также может быть адаптивным достижением.
[11] Здесь следовало бы еще отметить, что это господство чувства реальности в эмоциональной жизни не тождественно концепции Ференци об эротическом чувстве реальности. Понятие эротического чувства реальности относится исключительно к эротической функции, развитие которой понимается как поиск наиболее полной разрядки эротического напряжения.
[12] Смотри Наблюдения аналитика и педиатра Э. Пете, опубликованные в статье «Младенец и мать» в периодическом издании Психоанализ. Педагогика, том XI, 1937
[13] Начиная с более поздних работ И. Германна, количество компонентов сексуального влечения, направленных с самого начала на внешний объект, может быть увеличено за счет влечения к привязанности.
[14] Фрейд: Вводные лекции по психоанализу. Изд. Том VII, Глава. XXI, стр. 340 и XXVI, стр. 431
[15] Недавние работы в том же направлении:
- Майкл Балинт: о критике учения о прегенитальных организациях либидо. Международное периодическое издание Психоанализа, Том XXI, 1935; Ранние стадии развития Эго. Первичный объект любви. Имаго, т. XXIII, 1937.
- И. Германн: цепляться за себя - идти на поиски. Международное периодическое издание Психоанализа, Том XXII, 1936.
- E. P. Хоффманн: Проекция и развитие Эго. Международное периодическое издание Психоанализа, XXI, 1935.
- Л. Роттер-Кертеш: Глубокая психологическая подоплека инцестуозной фиксации. Международное периодическое издание Психоанализа, т. XXII, 1936.