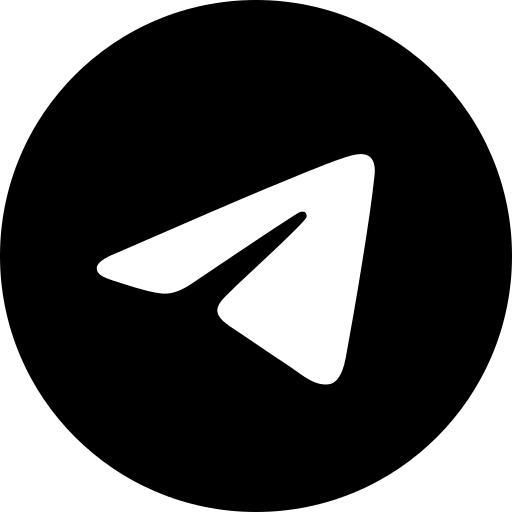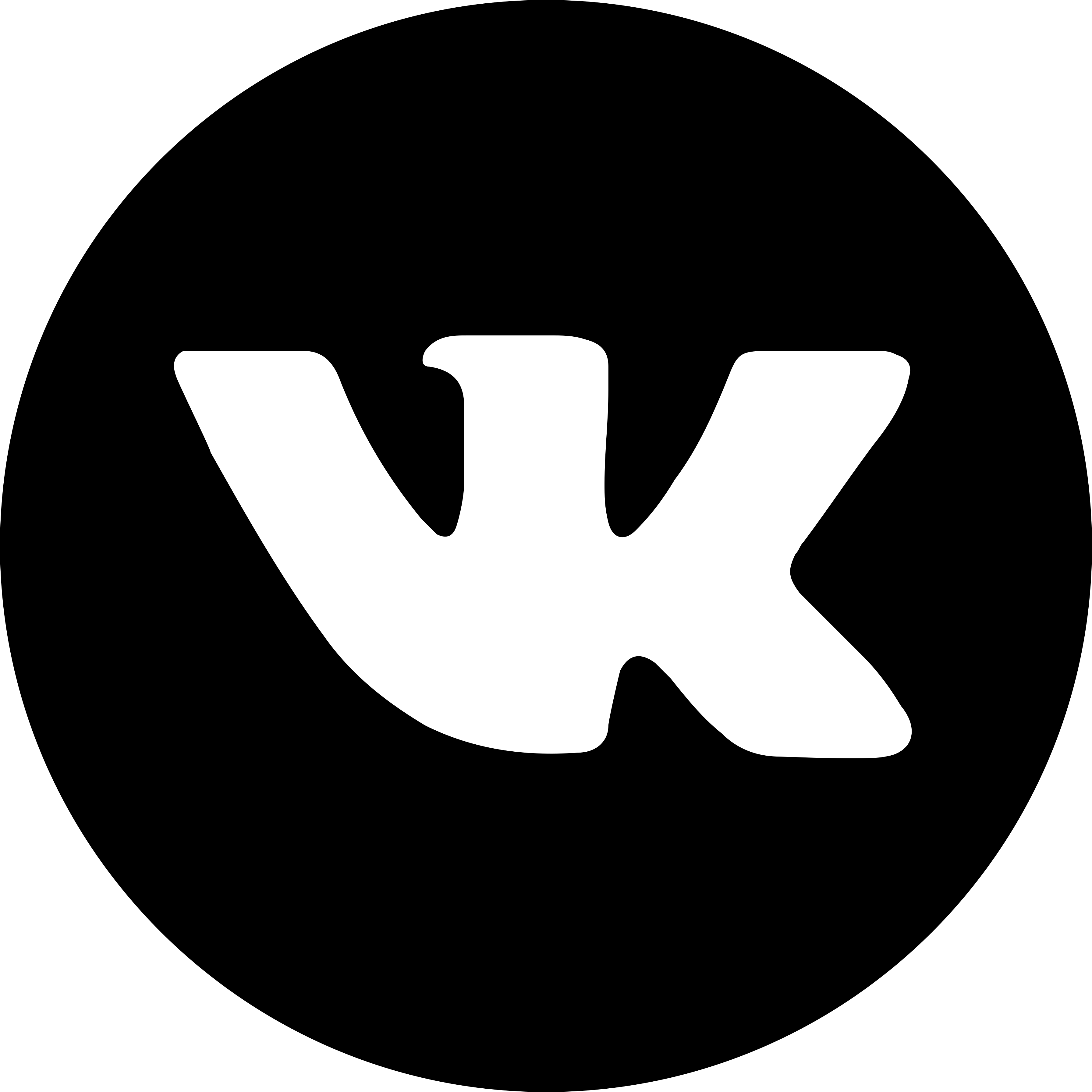- Психоаналитический психолог, магистр психологии, член ЕАРПП РО Москва, член МПА
- Член La cause des babes (Быть психоаналитиком с младенцем)

- Психоаналитический психолог, магистр психологии, член ЕАРПП РО Москва, член МПА
- Член La cause des babes (Быть психоаналитиком с младенцем)
В статье содержатся иллюстации. Ознакомиться с ними можно в прикрепленном pdf-файле.
В первой части доклада мне хотелось бы предложить рассмотреть концепцию отношений ребенка с окружением, с точки зрения теории символизации, автором которой является Рене Руссийон, французский психоаналитик, психолог и почетный профессор психологии Университета Люмьер Лион 2, член Парижского психоаналитического общества.
Во второй части я приведу пример своей работы с пациентом, который, на мой взгляд, отражает тему моего доклада.
В течение полувека Рене Руссийон развивает теорию, которая позволяет понять, как психические содержания, сформированные в ходе ранних взаимодействий между ребенком и его окружением, могли принять рефлексивную форму, как они были интегрированы и символизированы в каждом из нас. Какое место занимает «произведение игры» в этой деятельности по символизации?
В своей статье «Игра и символизация», Рене Руссийон пишет — субъективный опыт вписывается в психический аппарат под той формой, которую Фройд называл в разные периоды «первичной психической материей».
Это первое впечатление, первая запись, — именно так он объясняет это явление в своем знаменитом письме от 6 декабря 1896 года, в котором описывает психические процессы запоминания и воспоминания и называет их «мнестическими следами восприятия». Тексты, которые следуют за этим письмом, позволяют дополнить описание природы этого первого следа, вследствие которого процессы символизации должны начать свою работу. Согласно схеме Фройда, предложенной в 1891 году в работе «Об афазии» ( в ней дано определение первичной регистрации, в которой фиксируются переживания субъекта и его инвестиции), эта первичная регистрация состоит из множества влечений и расположена на пересечении субъекта и ухаживающего объекта , она возникает из встречи одного и другого; она обязательно смешивает Я и объект, субъект и свой объект — другой субъект. Следовательно, она изначально является гиперсложной.
Именно самые первые наши опыты больше всего стремятся затем к повторению из-за слабости процессов синтеза раннего возраста.
Когда Фройд вновь возвращается к этому вопросу во вступлении к статье «Я и Оно», он подчеркивает, что эта первичная запись не способна «становиться сознательной» в этой же [изначальной] форме, она должна трансформироваться. В разных статьях я уже подчеркивал, — говорит Руссийон, что она — первичная запись — подвергалась компульсии к интеграции, что выводится из поздних предположений Фройда, в которых он подчеркивал, что именно самые первые наши опыты больше всего стремятся затем к повторению из-за слабости процессов синтеза раннего возраста. Из этих гипотез следует, что первичные следы повторяются потому, что они не были интегрированы из-за неспособности к психическому синтезу.
При анализе причин внутрипсихических конфликтов, мы обращаем свое внимание на самые ранние этапы развития. Мы пытаемся обнаружить источники внутренних конфликтов, которые явились причинами симптомов характера. И, в большинстве случаев, мы обнаруживаем, что бессознательные конфликты связаны с самым ранним, доэдипальным периодом отношений ребенка и матери. Я в период формирования, когда процессы его нарциссического наполнения дают сбои, перегружается невыполнимыми задачами от объекта, осуществляющего уход. Ранние защитные механизмы, такие как расщепление и вытеснение, могут дать сбой. И тогда душа субъекта заполняется тем, что позже переживается, как некая нехватка жизненной энергии, — диффузными органическими состояниями чувства Я себя, но доминирующим становится состояние тревоги и страдания.
Бессознательные конфликты связаны с самым ранним, доэдипальным периодом отношений ребенка и матери.
Родиться — непростая процедура. Встреча с материнской грудью, с мамой, с молоком, это всегда встреча на границе хорошего и плохого. Соединить это, значит, добиться определенного успеха в достижении депрессивной позиции (6-8 месяцев). Неудача приводит к самой ранней травме, аннигиляции первичного чувства себя. Стертые следы репрезентаций сохраняются в негативе как нечто. Они становятся похожими на картины, где под слоем краски скрываются первичные наброски. Взамен стертому остается только то, что представлял собой объект.
Как показывают клинические наблюдения, ранний опыт взаимодействия матери и ребёнка является матрицей формирования первичного нарциссизма. Также известно, что происхождение родительского поведения кроется в личном опыте ранних взаимоотношений молодой матери или отца с собственной матерью. Интроецированные ими в детстве модели внутренних объектных отношений определяют особенности взаимодействия с другими не только в процессе жизни субъекта, но и, через феномен трансгенерационной передачи, в последующих поколениях.
На основании этого, мне хотелось бы рассмотреть нарциссическое расстройство не с позиции особенностей отдельно взятой личности, а как систему отношений, которые создаются во взаимодействии с таким человеком, и отразить это представление через призму психоаналитической психотерапии.
Встреча с материнской грудью, с мамой, с молоком, это всегда встреча на границе хорошего и плохого.
Я попробую развить свою мысль с помощью клинического примера, иллюстрирующего неблагоприятные особенности раннего опыта, где потребность в нарциссическом утверждении претерпела такого рода фрустрации, которые не позволили сформироваться чувству непрерывности собственного Я; где неустойчивый материнский объект не был способен поддерживать непрерывность нарциссического инвестирования в субъект; где иррациональная передача траура могла способствовать ввержению в состояние меланхолии и страдания от чего-то невидимого и непознанного.
Молодой человек, 22 года, Иван, студент 6 курса медицинского вуза, обратился ко мне с запросом разобраться с изменениями внутри себя после того, как он поступил в институт.
Первичное интервью.
«Рос со взрослыми, было интересно. Но когда поступил в институт, то с установками стало что-то происходить. Хочу разобраться с этим», — так он сказал на первичном интервью. Он активно отвечал на вопросы, которые я ему задавала, и рассказывал о себе. — Я единственный сын. Родители развелись, когда мне было 9 лет. Родители готовили меня к разводу, и развод я принял нормально. С отцом виделся, жил с мамой. До института все было понятно.
Отец — истерик и капризный.
А мама — у нее после развода был парень, но потом она вышла замуж за другого и два года назад уехала к нему в другую страну.
Есть двоюродные братья и сестры, Иван — самый младший из них, самый близкий по возрасту брат старше его на 6 лет.
— Я рос и воспитывался в маленькой коммуне, — сказал Иван. Друзья отца, несколько семей, которые все живут в одном квартале. Все дети почти ровесники друг другу. Мы все по очереди кочевали по домам. Было весело...
После развода родителей жил с мамой, когда она уехала, переехал к отцу и бабушке. Бабушка его очень любила, называла «мой сыночек», и это бесило его отца. Год после развода не помнит, помнит, что переехали в другой район и поменял школу. И что в какой-то момент стал чувствовать себя взрослым и ответственным за мать.
В 15 лет он начинает отношения с подругой своей двоюродной сестры, которой был 31 год. Эти отношения длились год, и завершились по инициативе этой девушки.
Интроецированные ими в детстве модели внутренних объектных отношений определяют особенности взаимодействия с другими не только в процессе жизни субъекта, но и, через феномен трансгенерационной передачи, в последующих поколениях.
У него есть друзья, считает, что их немного. И что он их тестирует на прочность. Тестирование выглядит так: подтрунивает над ними, докапывается, становится невыносимым. Те, кто продолжает с ним общаться, становятся друзьями. Сообщил, что он чрезвычайно упрям, и считает это скверной чертой.
Он склонен к булимии. Заедает стресс.
В начале года, когда Иван пришел в анализ, у него случился панический приступ, стало страшно.
Он так рассказывает о событиях:
— Перед Новым Годом от ковида умирает бабушка, мама отца. Я помню она посмотрела мне прямо в глаза, в ее взгляде был страх. Я, наверно, должен был что-то предпринять, ведь я же будущий врач. Но я ничего не делал. Когда позвонил отец и сообщил, что бабушка умерла, я с подругой был в торговом центре. Я выслушал его спокойно. Подруга спросила, что случилось, я сказал, что умерла бабушка, пошли дальше выбирать подарки. Она удивленно посмотрела на меня. Я, наверно, уже ее похоронил три дня назад, когда ее перевели на ИВЛ.
В отсутствии символики и слов, через абрис рисунка, стал формироваться образ себя, как и символическая топография места травмы.
Через месяц от ковида умирает друг отца, всеми любимый дядя из коммуны. Вся коммуна решает, что матери о смерти сына сообщит Иван, потому что никто не сможет. На поминках друга у его отца случается удушье, пища застревает в пищеводе, перекрывая дыхание, он теряет сознание и почти умирает. Все присутствующие стояли в растерянности, Иван с помощью реанимационных техник спасает отца. Отец уже не дышал. Пища вышла. Отец пришел в сознание и удивленно произнес, — что ты меня трясешь? Все пошли нервно курить. Он садится за стол, доедает свою еду и едет на смену в клинику. В этот период Иван работал в онкологическом отделении детской больницы, помимо этой работы у него было еще две. Осознание события с отцом прилетело через два дня. Выступил холодный пот, тремор рук и сильное чувство тревоги. Неделю принимал афобазол.
После этого принял решение идти к психологу. Да и друг настойчиво ему советовал.
Цель нашей работы состоит в том, чтобы помочь «символизировать», т.е. придать и совместно сконструировать значение и репрезентацию травматических аффектов, которые в свое время их не получили.
Во время первичной встречи я отметила некоторую несогласованную улыбку, отсутствие каких-либо классических депрессивных переживаний, аффективного выражения, когда он делился событиями, которые с ним произошли. Все эти травматические события были рассказаны монотонным голосом, хорошо выверенными словами и фразами.
Так же я отметила, что чувства есть, но он стремится выражать их через сарказм. И он сказал, что не плачет с 13 лет, запретил себе, считая это малодушием. После чего сам удивился, что уже и не может плакать.
Мы договариваемся о сеттинге и начинаем наше путешествие в поиске чего-то неизвестного, что послужило причиной его непереносимого состояния, которое я определяю как дезорганизацию личности.
Наши сеансы заполнены большим количеством информации. Иван активно делится всем, что происходит между сеансами, какие чувства у него вызывают коллеги, сокурсники, друзья. Я отмечаю, как в каждый сеанс он приносит актуальный материал и следом что-то из воспоминаний, его рассказы превращают сеанс в полет вырванных страниц из разных книг, которые летают по кабинету, поднимаемые откуда-то потоком воздуха. Их невозможно поймать, они создают спутанность и хаос. Его речь последовательна, словно он пересказывает то, что прочитал, в ней нет пауз, междометий и лишних слов, которые обычно используют, чтобы придать контраст чему бы то ни было. Все должно быть прилично и правильно.
Он сообщает о потребности выполнять все «на отлично» и сильном страхе ошибки. Это проявляется в сеттинге, он не опаздывает и не затягивает сеанс. Он садится и весь сеанс не меняет позу, его взгляд прикован ко мне. Он всегда опрятен, с уложенной прической.
На первом сеансе я отметила некий парадокс, который был озвучен в отношении друзей. Они должны пройти его тест. Я тогда подумала, о нарушенном базовом доверии. И его открытость с первых сеансов меня немного сносила. Но он внес ясность сам, сообщив, что делиться ему страшно и не очень-то хочется, но уж коль пришел сюда, то какой смысл что-то скрывать. Несмотря на рационализацию и интеллектуализацию, что является одной из самых мощных нарциссических защит, и преградой к аналитическому прогрессу, я подумала, что это то, что может нам помочь преодолеть эти мощные силы сопротивления. Его способность и возможность открыто говорить превращали наши сеансы в нескончаемый поток несвязанных событий. Несмотря на то, что Ивану с каждым разом удавалось все лучше выражать свои чувства, его и без того ощутимая тревога, с каждым сеансом становилась все тяжелее, принося ему большие страдания. Огромное страдание у него вызывало то, что он не может плакать.
Я ощущала себя контейнером и механизмом, который дифференцировал, разделял и связывал, но все это происходило внутри меня.
При всем этом воспоминания о детстве, отце и матери давались с большим трудом. Он быстро уставал, у него начинала болеть голова, его лицо краснело и покрывалось белыми пятнами. Но нам все же удавалось обнаруживать образ отца через рассказы об отношениях с другом, который ассоциировался с тем отцом, которого ему не хватало, либо через образ навязчивой истеричной подруги, домогавшейся его, которая «ведет себя как отец». Таким образом, выстраивалось скудное представление об отце и отношениях с ним.
К образу матери подойти было невозможно. К нему невозможно подойти и сейчас, спустя три года анализа. Я думаю о том, что мать моего пациента — это «мать, про которую говорить запрещено». Я опишу отношения с матерью, информация получена из скудного материала пациента. Известно, что беременность проходила без особенностей, роды были естественными.
Но после его рождения у матери начались какие-то проблемы, и она обращалась за помощью к психиатру. Первые полгода он был неспокойным, его сложно было накормить, и спал он только на руках мамы или бабушки, матери мамы. Отношения матери с бабушкой были сложными. Бабушку он описывает как непредсказуемую, взбалмошную, творившую все, что ей могло прийти в голову. Она могла разгуливать в нижнем белье и пеньюаре по дому, и неважно, кто был рядом. Она не отвечала на звонки, бросала трубку и могла без причин и объяснений перестать общаться со всеми близкими и с ним. «Я с детства отвечал за многое. Родители ссорились, ругались, я все слышал, и они ничего не объясняли, было страшно. И я научился уходить в себя, в свой вакуум — ничего не вижу и не слышу. Отец был требовательным и эмоционально отстраненным. Он постоянно говорил: «не ной», при каждом случае орал, заламывал руки до дикой боли — деспот, тиран и доминант». У отца пациента в возрасте 10 лет умер его отец, который его безумно любил. Отец никогда не делился этим с пациентом, как и бабушка. Он и сейчас закрыт для этой темы. Все, что ему стало известно, пациент узнал совсем недавно от своей тети, сестры отца, и мы много об этом говорили, о дедушке, которого он не мог знать.
Хаотичные и несвязанные сеансы первого года терапии являлись ярким отражением содержания внутреннего мира пациента, в котором он страдал и выживал одновременно. Его посещали мысли о суициде, он делился ими, мы говорили о том, что за ними скрывается. И это давало возможность удерживаться на стороне жизни. Это был достаточно сложный период анализа. На сеансах Иван рассказывал в подробностях как можно осуществить суицид так, что уже не спасут. Я же врач, говорил он. Внутри у меня все замирало, а он будто бы в этот момент оживал, будто бы ему доставляет удовольствие меня пугать и держать в напряжении. В этих атаках я отметила, что сами идеи и яркое описание могли играть определенную роль в общей экономике психической деятельности, представляя собой компромисс между двумя противоречащими друг другу движениями, где первое является БСЗ желанием, второе же ему противостоит, что само по себе является сознательным результатом БСЗ внутреннего конфликта.
Иван почти сразу стал приносить сновидения. И как мною было обнаружено в дальнейшем, сюжет рассказанного сновидения позже проигрывался в реальных отношениях, как если бы в психодраме, и только тогда мы могли подвергать анализу то нечто, что обретало символизацию, связывалось с чувствами и с опытом раннего периода, посредством чего психика заполняла лакуны вытесненного материала.
Также на одном из сеансов первого года анализа, мы вышли на тему живописи и искусства, как способа самовыражения, это очень обрадовало Ивана, и, таким образом, в нашем пространстве появились рисунки. В отсутствии символики и слов, через абрис рисунка, стал формироваться образ себя, как и символическая топография места травмы. Введение инструмента арт-терапии не только снизило соматическую симптоматику и общий фон тревоги, но и способствовало появлению слов через анализ рисунка. Я хотела бы с вами поделиться этим опытом.
Таким образом, в рамках психоаналитической диагностики психопатологии, мы можем назвать подобных пациентов «нарциссами идентичности» (термин заимствован у Рене Руссийона), страдания которых берут свое начало в травме и ранней депривации. Они приносят нам в анализ такие архаичные переживания, которые могут проявляться в виде психотических состояний, патологических актов и даже некоторых соматических состояний. Цель нашей работы состоит не столько в том, чтобы интерпретировать их скрытый смысл, сколько в том, чтобы помочь «символизировать», т.е. придать и совместно сконструировать значение и репрезентацию травматических аффектов, которые в свое время их не получили.
По мере того, как эти архаичные переживания будут распознаны и трансформированы через творчество либо игру, откроется путь к рефлексивности, способности чувствовать, видеть, слышать себя и думать о себе.
Чтобы завершить этот клинический пример, а наша работа продолжается, я искала слова, и мне на ум пришла метафора, которой я хочу поделиться. Наши сеансы по-прежнему сгущены и сконцентрированы. На каждом сеансе я чувствую на себе «пристальный безотрывный взгляд младенца, жадно сосущего грудь, который вглядывается в лицо своей матери».