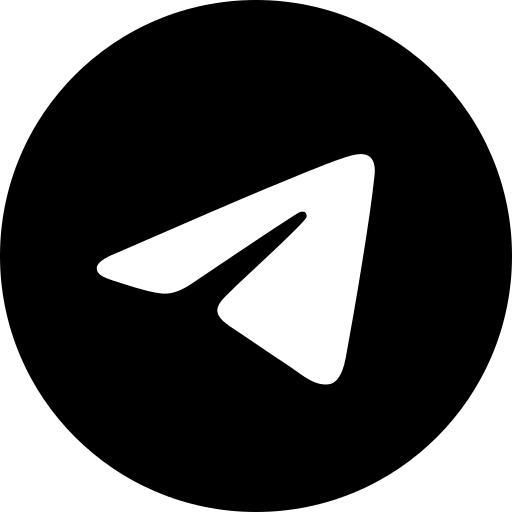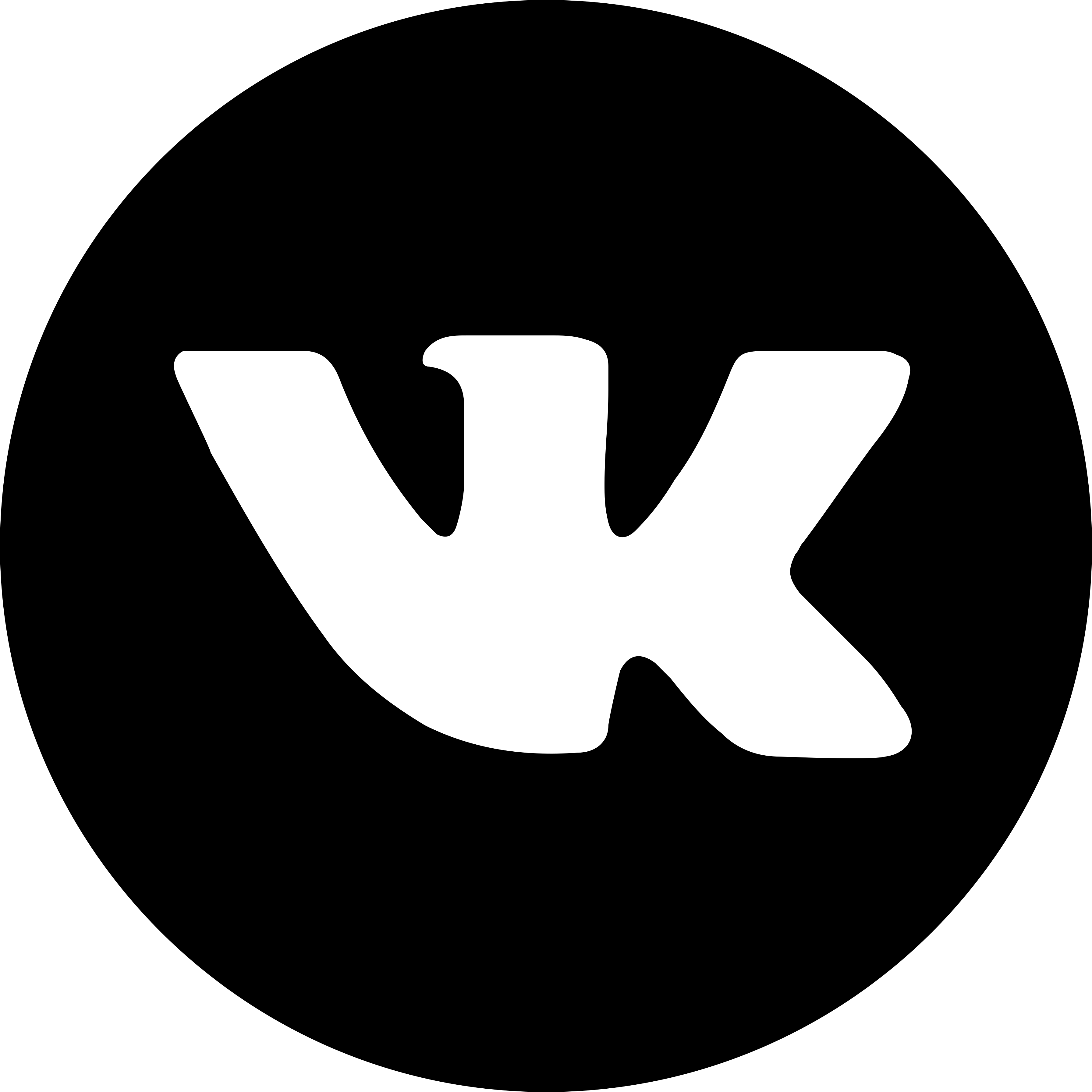- Психоаналитик и психиатр
- Член Итальянского Психоаналитического Общества
- Член Международной Психоаналитической Ассоциации (IPA)

- Психоаналитик и психиатр
- Член Итальянского Психоаналитического Общества
- Член Международной Психоаналитической Ассоциации (IPA)
Психоанализ появился на свет, как большой современный нарратив, который стремится дать универсальное определение внутреннему миру современного человека, исследуя личностные проработки социальной реальности.
Фрейд не видел никакого противоречия между индивидуальной и социальной психологией. Как своего рода манифест его мысли, мы вспоминаем первые строки введения в «Психологию масс и анализа человеческого Я» (1921): «Противоположность между индивидуальной психологией и социальной психологией (или психологией масс), кажущаяся, на первый взгляд, весьма значительной, оказывается при тщательном исследовании не столь резкой. Хотя индивидуальная психология построена на наблюдении над отдельным человеком и занимается исследованием тех путей, идя которыми, индивид стремится получить удовлетворение своих влечений, однако, при этом ей приходится лишь изредка, при определенных исключительных условиях, не принимать во внимание отношений этого индивида к другим индивидам. В душевной жизни одного человека другой всегда оценивается как идеал, как объект, как сообщник или как противник, и поэтому индивидуальная психология с самого начала является одновременно и социальной психологией в этом распространенном, но весьма правильном смысле» (p. 261).
Однако в наши дни, по сравнению с временами Фрейда, по крайней мере отдельные психоаналитики уже не ставят вопрос о простых изменениях в социальном и об их влиянии на индивидуальную субъективность. Они описывают, — и как мне кажется, с большим преувеличением, — самые настоящие, беспрецедентные перемены в социальном и те результаты антропологического характера, к которым они и приводят[1]. С их точки зрения, эти результаты часто вызывают у нас чувство беспомощности, когда мы пытаемся понять цепочку связей, порождающую изменения, которые мы наблюдаем. А для психоанализа последствия, которые могут возникнуть в результате этих описаний, имеют противоположный знак и при этом также не очень сбалансированы. С одной стороны — консерваторы (в том числе: Гласс (Glass), 1993; Лири (Leary), 1994; Мельман (Melman), 2002), то есть те, кто не придерживается мнения, что знание и аналитическая практика должны прийти к согласию с новым, иначе им угрожает упадок, или, что, во всяком случае, традиционных категорий вполне достаточно для истолкования этого нового, потому что, на самом деле, это новое — не более, чем видимость. С другой стороны — революционеры (в том числе: Штерн Д.Б. (Stern D. B.), 1985; Ходоров (Chodorow), 1995; Хоффманн (Hoffmann), 1998; Флакс (Flax), 2000; Фрош (Frosh), 2000); то есть те, кто утверждает, что необходимо задумываться о полностью инновационных категориях мысли, поскольку традиционные аналитические категории устарели и не пригодны для описания новой субъективности. С учетом этих последних перспектив в психоанализе исчезли вера в возможность теории, способной дать объяснения во всеобщем масштабе, поиск универсальных мотиваций, иными словами, возможность верить в парадигму Просвещения, в «великие нарративы», в идеологии XVIII — XIX века, в том числе, в труды отцов психоанализа. Обе позиции представляются защитными до крайней степени и не учитывающими сложности тех явлений, которые сопровождают социокультурные перемены. «В той истории, которая происходит вокруг и внутри нас, нет ни землетрясений, ни катастроф. Они существуют только в наших интерпретативных моделях». (Ceserani, 1998, p. 21)
И хотя постмодерн воспринимался как трансформация — совершенно очевидная и насыщенная, он, тем не менее, сопровождался феноменами задержки, непрерывности, весьма бурного неприятия, с точки зрения идеологии и чувств, привязанности и ностальгии. С другой стороны, тот же Лиотар (Lyotard, 1979) — автор термина «постмодернизм» — напоминает, что постмодерн — это не просто эпоха, которая хронологически следует за эпохой модерна, но что существует глубокое переплетение, непрерывная связь между элементами модерна и постмодерна. Одновременное существование форм модерна и постмодерна может помочь нам вместе с Бауманом (Bauman, 1993) дать определение постмодерну, откровенно используя терминологию модерна, как паузу в междуцарствии, где, с одной стороны, «больше не», а с другой — «еще не» (см. Bauman e Mauro, 2015), избегая резких и неуместных исторических цезур.
Хотя постмодерн воспринимался как трансформация — совершенно очевидная и насыщенная — он, тем не менее, сопровождался феноменами задержки, непрерывности, весьма бурного неприятия, с точки зрения идеологии и чувств, привязанности и ностальгии.
Вот что пишут Агнес Хеллер (Ágnes Heller) и Ференц Фехер (Ferenc Fehér) (1988): «Под постмодерном можно понимать то пространство-время, частное-коллективное, что расположено внутри более широкого пространства-времени модерна, выделенное теми, у кого есть проблемы с модерном или вопросы к нему, кому есть, чем его попрекнуть, кто может предъявить перечень одновременно его достижений и несовершенств. Кто изберет местом своего пребывания постмодерн, будет так или иначе жить среди обитателей модерна, а также предмодерна, поскольку в самой основе постмодерна имеется видение мира, как множественности разнообразных пространств и темпоральностей. Таким образом, постмодерн может быть определен только внутри таких множественностей по сравнению с такими разнообразными несхожестями». (p. 7).
Под постмодерном можно понимать то пространство-время, частное-коллективное, что расположено внутри более широкого пространства-времени модерна, выделенное теми, у кого есть проблемы с модерном или вопросы к нему, кому есть, чем его попрекнуть, кто может предъявить перечень одновременно его достижений и несовершенств
Глобализация экономики, наличие интернета, новые СМИ, сжатие пространства и изменение времени, отдаление людей от политики и соответствующее язвительное настроение по отношению к институтам, рост индивидуализма и гедонизма, кризис социально ориентированного государства, рост насилия и наряду с этим желание избегать конфликтности, неразбериха в вопросах пола и идентичности, массовый консьюмеризм, тенденция к разбазариванию, неподвижное неприятие и апатичный ресентимент — вот отдельные проявления того, что, судя по всему, сейчас берет верх и, проникая в твердое ядро психического опыта, способствует переустройству бессознательных соглашений между людьми с помощью новых, нередко драматичных способов (Elliott & Spezzano, 2000).
Нам, скорее, придется выстраивать свои размышления, используя функцию неустойчивости, отказаться от термина «постмодернизм» и использовать термин «текучий модерн» — он обозначает эту новую фазу истории человечества, то есть эпоху отрыва корней без последующего нового укоренения с помощью метафоры жидкого состояния и текучести, эпоху, в которой, чтобы продолжать размышлять, нужен пациент и постоянный поиск ответа на вопросы об уклончивой и многогранной реальности и о том, каким образом отдельные индивидуумы живут и размещаются в ней.
Не думаю, однако, что весьма длинного перечисления этих явлений, которые как вместе, так и порознь могут приобретать свойства катаклизмов[2], окажется достаточно, чтобы задуматься о них в это время, которое утратило свои первичные связи с прошлым.
Бауман (Bauman, 2000) утверждает, что нам, скорее, придется выстраивать свои размышления, используя функцию неустойчивости, отказаться от термина «постмодернизм» и использовать термин «текучий модерн» — он обозначает эту новую фазу истории человечества, то есть эпоху отрыва корней без последующего нового укоренения с помощью метафоры жидкого состояния и текучести (Bauman e Tester, 2001), эпоху, в которой, чтобы продолжать размышлять, нужен пациент и постоянный поиск ответа на вопросы об уклончивой и многогранной реальности и о том, каким образом отдельные индивидуумы живут и размещаются в ней.
Бауман пишет: «В голову нам приходит, скорее, карусель, чем марафонский забег; жизнь представляется последовательностью оборотов, цепочкой новых начал, а место и среда часто обособлены по отношению друг к другу». (2001, p. 95) Scrive Bauman:
Эллиот и Спеццано (Elliott, Spezzano, 2000) утверждают, что что нам нужно совершить полный оборот вокруг множественности, плюрализма и амбивалентности, если мы хотим продумать психоанализ в эпоху постмодерна. По мнению Эллиота (Elliott (2000), постмодерн выбирает антиобобщающий ракурс, ибо открывает, что возникновение знания единственно в своем роде, локализованно и направленно. Постмодернизм стремится изгнать неоспоримую уверенность и заменить ее дискретной сомнительностью, скептицизмом, лишенным цинизма, более того — наивным, пытающимся разложить мир на составляющие и истолковать его. И поскольку этот аспект, с одной стороны, вызывает чувство незащищенности, неуверенности в вещах и в завтрашнем дне, то, с другой, он признает за самим человечеством больше возможностей и ответственности за строительство собственной судьбы.
Мы действительно стали свидетелями выстраивания новой, невыраженной доселе субъективности, почувствовавшей себя свободной от каких бы то ни было обязательств по отношению к предшествующим поколениям, и такого субъекта, который готов отнестись к своему прошлому как к чистому листу?
Холт (Holt, 2002) подчеркивает, что, хотя постмодернизм и внес вклад в пересмотр психоанализом тех своих сторон, что отличались догматизмом и антинаучностью, все равно необходимо остерегаться некоторых авторов (таких как Ирвин Хофманн (Irwin Hoffmann) и Доннел Cтерн (Donnel Stern), которые хотя и исходят из постмодернизма, но доходят до представления радикального конструктивизма в отношении теории и процесса психоанализа, а стало быть, и до очень вредных и приводящих к обратному результату преувеличений[3].
Что это: невыраженная до сих пор субъективность или представленное в новом обличье неизменное прошлое?
Мы действительно стали свидетелями выстраивания новой, невыраженной доселе субъективности, почувствовавшей себя свободной от каких бы то ни было обязательств по отношению к предшествующим поколениям, и такого субъекта, который готов отнестись к своему прошлому как к чистому листу?
Фрейд очень любил цитату из Гетевского «Фауста»: «Что дал тебе отец в наследное владенье, приобрети, чтоб им владеть вполне» (перевод Н. Холодковского)[4], и помня ее, также надо помнить знаменитые слова Фрейда «Там, где было Оно, должно появиться Я» (Wo Es war, soll Ich werden).” (1932, p. 190).
И Гете, и Фрейд подчеркивают, как признание ценности прошлого, так и необходимые первичные трансформации, связанные со сменой поколений. Фрейд также добавляет: «Это дело культуры» (Ibid., p. 190), чтобы подчеркнуть с этической точки зрения значение трансформации, и не только на личностном уровне, но и на социальном уровне психоаналитической работы.
Бион (Bion, 1963) выступает в том же ключе, когда подчеркивает необходимость «стоять на позиции наивного видения, когда проблема настолько перегружена опытом прожитого, что ее контуры становятся размытыми, а вероятные решения неясными. [...] Способность психоаналитика сохранять сущность своего тренинга и своего опыта и при этом все-таки достигать наивного видения позволяют ему самостоятельно и на собственный лад открывать истины, уже открытые ранее его предшественниками» (p. 10).
Идеальным эпиграфом к книге Ханны Арендт «Между прошлым и будущим» (1961) служит афоризм французского поэта Рене Шара из сборника «Листки Гипноса» (194344): «Наше наследство досталось нам без завещания»: в нем подчеркивается типичный парадокс эпохи модерна, который философия определяет как «порванная нить традиции», означающий, что каждое поколение не помнит тех причин, которыми руководствовались предыдущие поколения.
Способность психоаналитика сохранять сущность своего тренинга и своего опыта и при этом все-таки достигать наивного видения позволяет ему самостоятельно и на собственный лад открывать истины, уже открытые ранее его предшественниками.
Томас Элиот (Thomas Eliot, 1932) распространяет замечания Арендт на литературу: «Английские литераторы редко поминают о традиции, они лишь время от времени сожалеют об ее отсутствии. Мы не пользуемся ни понятием «традиция», ни другим — «традиции»; в лучшем случае, мы прибегаем к этому слову, чтобы сказать: поэт имярек «традиционен». В высказывании, не несущем осудительного смысла, слово это, кажется, встретишь нечасто. Впрочем, и в таких высказываниях положительный оттенок расплывчат, и понимать их следует так, что данное произведение хорошо, поскольку оно является добротной археологической реконструкцией. Навряд ли слово «традиция» усладит английский слух, если нет в нем этой для всех удобной отсылки к успокоительной науке археологии.
[...]. Если бы единственной формой традиции, этого движения по цепочке, было следование по стопам поколения, непосредственно нам предшествовавшего, и слепая, робкая приверженность к им достигнутому, такой «традиции», вне сомнения, нужно было бы противодействовать. [...]. Но традиция — понятие гораздо более широкое. Ее нельзя унаследовать, и, если она вам нужна, обрести ее можно лишь путем серьезных усилий. Она, прежде всего, предполагает чувство истории [...], а чувство истории, в свою очередь, предполагает понимание той истины, что прошлое не только прошло, но продолжается сегодня; [...]. Это чувство истории, являющееся чувством вневременного, равно как и текущего, — вневременного и текущего вместе, — оно-то и включает писателя в традицию. И, вместе с тем, оно дает писателю чрезвычайно отчетливое ощущение своего места во времени, своей современности. [...]. Нет поэта, нет художника — какому бы искусству он ни служил, — чьи произведения раскрыли бы весь свой смысл, рассмотренные сами по себе»[5].
Мы, как карлики, взобравшиеся на плечи гигантов. Мы видим больше и дальше, чем древние, но не потому, что наше зрение зорче или наш рост выше, а потому что это они держат нас и поднимают на всю высоту своего гигантского роста.
Зиммель в своих размышлениях и афоризмах (собранных в издании на итальянском языке под названием «Посмертный дневник» — прим. переводчика) «Diario postumo» (1989) пишет: «Я знаю, что умру, не оставив духовных наследников (да и ладно). Мое наследство напоминает наличные деньги, которые делятся среди множества наследников, каждый из которых вкладывает свою долю в соответствии со своей собственной природой, не интересуясь происхождением самого наследства» (p. 3).
Тема наследия звучит и у Дерриды (Derrida (2001) и рассматривается шире в парадоксальном гимне прошлому; он пишет следующее: «Прежде всего, надлежит знать и уметь вновь утверждать то, что было до нас, и которое, следовательно, мы получаем, еще не имея возможности выбрать его сами, — но и уметь вести себя по отношению к этому независимо» (p. 15).
А вот что писал Гегель (1833): «Но эта традиция не есть лишь домоправительница, которая верно оберегает полученное ею и, таким образом, сохраняет его для потомков и передает им его не умаленным, подобно тому, как течение природы, в вечном изменении и движении ее образов и форм, остается навсегда верным своим первоначальным законам и совсем не прогрессирует. Нет, традиция не есть неподвижная статуя: она — живая и растет подобно могучему потоку, который тем больше расширяется, чем дальше он отходит от своего истока. [...] Это наследование есть одновременно и получение наследства, и вступление во владение этим наследством. [...] Полученное, таким образом, изменяется, и обработанный материал именно потому, что он подвергается обработке, обогащается и вместе с тем сохраняется». (pp. 10 e sgg.).
В свою очередь, Деррида замечает: «То, что мы принимаем наследство, накладывает на нас двоякую задачу: получение и выбор, принять и интерпретировать то, что было перед нами, поскольку само по себе наследство — свидетельство нашей конечности. Только конечное существо может оставлять наследство, саму эту необходимость дает ему конечность, заставляя его, тем самым, принимать то, что больше его, что его превосходит, что было до него и продлится после. Именно конечность заставляет человека выбирать, предпочитать, оставлять, исключать или игнорировать, что бы то ни было. Все это он совершает, чтобы ответить на зов того, что было до него. Причем, отвечает он, как от своего собственного имени, так и от имени другого» (2001, p. 17)
Агамбен (Agamben, 2017) подчеркивает, что традиция всегда уже сознательно или бессознательно подделана и искажена.
У Бернарда Шартрского[6] есть высказывание, которое я люблю вспоминать: “Nos sumus sicut nanus positus super humeros gigantis” — Мы, как карлики, взобравшиеся на плечи гигантов. Мы видим больше и дальше, чем древние, но не потому, что наше зрение зорче или наш рост выше, а потому что это они держат нас и поднимают на всю высоту своего гигантского роста».
Современность может обрести смысл только с помощью понимания и признания предшествующей истории.
Норман Элиас (Norman Elias, 1987) отмечал размывание символических и коллективных структур субъективности, которые, безусловно, служили ограничителями, а одновременно и сильнейшими организующими элементами инстинктивной жизни. Это размывание, своего рода волатильность (Bauman, 2003) предшествует новым способам организовать жизнь и мышление, но и они, в свою очередь, нестабильны, двусмысленны, мимолетны, метаморфны, а потому в дальнейшем сменятся, пусть и со значительными трудностями, на что-то другое. Возможно, однако, что они представляют собой окончательную невозможность дать определение субъекту в отсутствие какого бы то ни было ограничения и схемы, на которую можно постоянно ссылаться?
Пытаться унять ощущение исчезновения почвы под ногами, нестабильности и непостоянства жизненных проектов человека, хватаясь за то, что было определенного в прошлом, становиться новыми «хвалителями прошедших времен» laudatores temporis acti,[7] как Гораций называл стариков, не принимавших нового в настоящем, и следовательно, объяснять эту утрату почвы под ногами, держась только за «священные писания», за силу традиции, — может только на первый взгляд успокаивать, но по сути это — пустая трата времени.
Каждое поколение не помнит тех причин, которыми руководствовались предыдущие поколения.
Эриксон (Erikson, 1964) объясняет, что верность — это «способность соответствовать свободно выбранным принципам, несмотря на неизбежные противоречия в системах ценностей» (p. 128), но окостенение в устаревшем представлении о мире, или, по крайней мере, не соответствующем его социокультурной сложности, никакого отношения к верности не имеет, а представляет собой некритичное принятие на веру ортодоксального подхода и приводит только к тому, чтобы по-волчьи выть (Freud, 1921).
Габурри и Амброзиано (Gaburri e Ambrosiano, 2003) настаивают, что психоаналитик должен постоянно включаться в дискуссию и соглашаться участвовать также на уровне личной включенности. Авторы берут за основу опыт горевания для процессов отделения от первых объектов. Через отделение мы сталкиваемся с ужасом бренности, а группа — это то самое пространство, в котором формируются способы ее проработки. Однако в дальнейшем субъект должен освобождаться от группы, сохраняя при этом готовность проникнуться господствующей культурой. Функция ревери понимается ими как прерывистое раскрытие мышления «заражению» со стороны другого. Недостаточность ревери лежит в основе как конформизма в качестве идентификационного признака группы (социальный конформизм), так и конформизма в анализе (некритичное согласие с идеями учителей или психоаналитического института). Далее авторы говорят об «идеологиях-убежищах», когда даже наиболее распространенные направления (движение в защиту окружающей среды, феминизм, пацифизм) рассматриваются как «норы», в которых можно спрятаться от страха чувствовать и думать.
Традиция не есть неподвижная статуя: она – живая и растет подобно могучему потоку, который тем больше расширяется, чем дальше он отходит от своего истока.
Агамбен (Agamben, 2008) пишет: «В самом деле, человек своего времени, по-настоящему современный — тот, кто не полностью с ним совпадает и не пытается подстроиться под его требования, а потому, в этом смысле, не совсем принадлежит сегодняшнему дню; но именно благодаря этому, благодаря такой нестандартности и такому анахронизму он больше остальных обладает способностью почувствовать и уловить свое время [...]. Современность есть такие отношения со временем, которые примыкают к нему с помощью смещения и анахронизма» (pp. 8-9).
А вот что пишет Понталис (Pontalis, 1997): «Психоанализ не принадлежит, не может принадлежать своему времени. Он не принадлежит и другому времени, он принадлежит времени иному. Он анахроничен или, точнее, по словам Ницше[8], вне времени. Он есть и должен быть безразличен к духу времени» (p. 17).
Бальзамо (Balsamo, 2014) подчеркивает, что: «Признание опыта может происходить только в выслушивании того, что упорно в нем звучит сверх того времени, в котором реализуется, в принятии того, что ему подчиняется, и в строительстве нового, никогда не происходившего, в творении неожиданного, которое, как и сегодняшнее, не вписано в настоящее, хотя только из него и может вырастать». (p. 4)
Современность может обрести смысл только с помощью понимания и признания предшествующей истории.
Нельзя ни в коем случае допускать, чтобы аналитики, как герои некоторых произведений научной фантастики, жили сами и предлагали жить другим в побочных или параллельных пространствах, смежных с миром истории и жизни, но невидимых и недоступных. Необходимо следить за тем, чтобы не противопоставлять глобализованным времени и пространству ностальгическое и медленно протекавшее прошлое, маловероятный поиск утраченного времени, которые в наше время не могут рассматриваться в качестве альтернативы. Подобное бесплодное противопоставление встречается в дискуссиях о футболе между сторонниками игры, основанной на персональной технике и гениальности, хотя и медленной, и сторонниками игры, основанной на силе мышц, на атлетической мощи и скорости, но лишенной фантазии.
«В организации психического аппарата следы прожитого сохраняются и создают разницу временных уровней, комбинацию из различных времен — прошлого, настоящего и будущего, которые налагаются друг на друга и рассредоточиваются. Более старое прожитое идет после менее старого; чувство привязанности в новых отношениях, непосредственно связано с привязанностью из детства. Это непрерывный труд переработки заново и перевода». (Preta, 2006, p. 19)
Постмодернистской мысли свойственно значительное внимание к субъекту и субъективности (Flax, 1996). По мнению Митчелла (Mitchell, 1988), в психоанализе произошел переход от человека влечений к человеку, порождающему смысл, от детской сексуальности к обретению и возвращению к жизни подлинного Я, которое стремится к созиданию личного смысла.
Внимание к субъекту и субъективности бросает вызов и ставит под вопрос многие положения различных психоаналитических теорий, в том числе — существование эволюционных моделей, сексуальность, саму идентичность и практику психоанализа с его понятиями нейтральности, воздержания и пр. С этой точки зрения, с учетом сложности и историчности субъективности, снова стал оспариваться поиск такой универсалистской метапсихологии, которая смогла бы все теории свести в одно целое и вобрать в себя все субъективности (Capozzi, 2003).
Если посмотреть на современные психоаналитические теории, то в них просматривается разносторонность и многообразие моделей, понятий и терминологии, которые заставляют усомниться в том, насколько можно говорить только об «одном» психоанализе или же о «многих», различных между собой (Wallerstein, 1988). Валлерштайн (Wallerstein, 1990) призывает отыскать common ground — общий знаменатель. А с другой стороны, Фрейд и сам избегал переустройства постфактум неравного развития своей мысли, ее научной незавершенности.
В своей Автобиографии (1924) Фрейд особо отмечал, что теоретическая модель, описанная им в трудах по метапсихологии, может быть заменена на другую без всякого вреда для самой дисциплины. Даже в своем Очерке психоанализа, увидевшем свет уже после его смерти в 1938 году, он не старался системно переосмыслить и вписать в контекст первоначальную позицию в свете последующих концептуальных изменений (Wallerstein, 1997).
Через отделение мы сталкиваемся с ужасом бренности, а группа – это то самое пространство, в котором формируются способы ее проработки.
Понталис (Pontalis, 1997) пишет: «что здание, им самим [психоанализом] воздвигнутое, при перестройке, добавлении комнаты здесь, сносе стенки там, но не затрагивая при этом фундамента [...], — что это здание должно оставаться незавершенным, недостроенным, разве не именно это отвергается, когда страсть к теории выдается за суть системы? Такая теория психоанализа, которая претендует на самодостаточность [...], по самой своей природе не годится для своего предмета». (pp. 106-107)
Баранд (Barande, 1981) подчеркивает важность сомнений и противоречий в мысли Фрейда: «Ценю извивы, трепетность мысли Фрейда, даже его способность противоречить самому себе, но больше всего ценю его характер, позволявший ему до самого конца, до глубокой старости выносить выраженные и невыраженные сомнения, способные довести его до изнеможения» (p. 453).
Психоанализ не принадлежит, не может принадлежать своему времени. Он не принадлежит и другому времени, он принадлежит времени иному. Он есть и должен быть безразличен к духу времени.
Риччи (Ricci, 1987) комментирует: «Град психоанализа не гарантирует гражданства раз и навсегда. Он — как открытая граница, как мост, позволяющий переходить туда и обратно и обмениваться, как причал, требующий новых трудов, как отвага, которая меряется силами с несоизмеримым» (p. 189).
То, что можно определить как новую психическую экономику, используя излюбленный термин Джойс МакДугалл (Joyce McDougall, 1978), основанную всегда и в любом случае на поиске удовольствия и на его демонстрации, присутствовало, по всей вероятности, в значительных социальных явлениях, широко распространенных, но свойственных отдельным группировкам, проявлялось в виде мятежей — и как же тут не вспомнить лозунг студенческих протестов 1968 года: «Мы — реалисты, мы требуем невозможного», — или маргинальных, как использование наркотиков в общинах хиппи, — тогда как сегодня мы сталкиваемся с ней в превалирующих социальных явлениях при всеобщем изменении коллективного менталитета.
Психоаналитик, последователь Лакана, Шарль Мельман (Charles Melman, 2002) утверждает, что мы перешли от культуры, основанной на репрезентации, которая зиждется на призывании желаемого объекта, — к культуре презентации, которая заключается в автоматическом и моментальном присвоении, без промежуточных инстанций, самого объекта. Иными словами, от культуры, основанной на вытеснении желаний, стало быть, на неврозе, к иной культуре, которая рекомендует их свободное выражение и удовлетворение и поощряет таким образом перверсию. Психическое благополучие, ментальное здоровье находятся в гармонии не столько, по-видимому, с Идеалом, сколько с объектом для удовлетворения.
Аналитик и музыковед Мишель Шнайдер (Michel Schneider, 2002) также ссылается (так кажется лично мне) на понятие репрессивной десублимации, описанной Маркузе в «Устаревании психоанализа» (1963) и Райхом в «Сексуальности и классовой борьбе» (1968), которое используется для описания воплощенной, лишенной чувственности сексуальности, где субъекты становятся простыми объектами взаимных требований выполнения функций с точки зрения той вседозволенности, которой поздне-капиталистическое общество заменило старую сексофобную мораль. Это общество распространяет не личную свободу, а собственный контроль над личностью, и утверждает, что договор, понимаемый, как частный договор за рамками норм, признанных как общепринятые, «представляет собой основной механизм для извращенного функционирования. Он все деинституционализирует, то есть снимает регулирование символических практик, чтобы ввести их в сферу договора, что может способствовать укреплению извращенных социальных механизмов». (Schneider, 2002, p. 213)
Французский автор со всей очевидностью раскрывает социальную пользу введения под управление закона таких положений частной жизни, которые в настоящее время подчиняются все возрастающему распространению договора.
Если посмотреть на современные психоаналитические теории, то в них просматривается разносторонность и многообразие моделей, понятий и терминологии, которые заставляют усомниться в том, насколько можно говорить только об «одном» психоанализе или же о «многих», различных между собой.
У меня создалось впечатление, что все эти утверждения нужно рассматривать с большой осторожностью, поскольку они, хоть и содержат крупицы истины, но ведут, если возводить их в общее правило и абсолют, к реакционным и консервативным позициям, в диапазоне от идеализирующих до порочащих, с ностальгией напоминают о прошлом с четко очерченными границами и, стало быть, с так или иначе определенными организационными возможностями, в противоположность сегодняшнему миру, лишенному какой бы то ни было возможности ограничения и из-за этого запутанного и разочарованного настолько, что психоанализу невозможно к нему даже подступиться (Lebrun, 1997).
Огромная власть договора в современном обществе связана в том числе с исчезновением некоторого количества элементов частной жизни из ряда норм, пронизанных безличными формами контроля, порождениями всепроникающей бюрократической нормативной негибкости, которые постепенно выпали из истории, а потому оказались неспособны динамично и в развитии истолковывать потребности и их выражение, Разумеется, не все может быть передано в руки свободного рынка с его воздействием на экономико-политическую и даже этическую deregulation (Schinaia, 2019), опасность которого в том, что все может оказаться в руках наиболее сильного; но и в этом случае необходимо сохранять чередование «закон-договор», что позволяет придать жизни ускорение и одновременно защитить социальные связи.
Бауман (Bauman, 2003): «Принадлежность и идентичность не вырезаны в камне, не обеспечиваются пожизненной гарантией и в значительной мере являются объектом переговоров и могут быть отменены» (p. 6).
Эллиот (Elliott, 2000): «Общество постмодерна характеризуется как культура воображения без иллюзий, как культурное пространство, допускающее временные и случайные формы воображенных структур» (p. 142).
Таким образом, смысл заключается в необходимости, когда надо, прислушаться к новым организациям психопатологии, вооружиться значительной долей гибкости и осторожности в использовании структурной перспективы, что подчеркивает структурную разницу между неврозами, перверсиями и психозами, исходя из специфичности действующих в них защит.
МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ И ОТСУТСТВИЕМ ТЕОРИИ: АНАЛИТИК-РЕМОНТНИК
Я использую вопросы, которые задали Чезерани (Ceserani, 1998) и Барале (Barale, 2003), немного переформулировав:
Первый: «Может ли психоанализ продолжать использовать свой инструментарий для толкования и прибегать к своим целям расшифровки, реконструкции, реинтеграции в жизнь отношений такого субъекта, который живет в этих новых условиях? Другими словами: возможно ли применить уже созданные инструменты для анализа, отточенные и приведенные в состояние готовности для работы в определенной историко-социальной ситуации, в радикально отличающейся историко-социальной ситуации? (p. 23)
Второй: «Происходит ли переход от субъекта, который себе самому (Эдип) задает вопросы о своей идентичности, пусть даже и признавая свою гетерогенность и гетерохронизм [а я еще добавлю термин «эксцентричность»], свою незавершенность и открытость, наполненную конфликтностью сеть импульсов, отношений, различий, желаний и наследственности, сознательных и бессознательных, больших и малых, которые образуют его в диалектическом бесконечном движении, но который все-таки может пуститься на этот поиск, поскольку его поддерживают могучие психосоциальные опоры, — к субъекту, которому свойственно куда более радикальное кочевничество, от рассеивания субъективности в изменчивых потоках, сквозь нее протекающих, и более не поддерживаемый сильными символическими структурами?» (pp. 20-21).
Град психоанализа не гарантирует гражданства раз и навсегда. Он – как открытая граница, как мост, позволяющий переходить туда и обратно и обмениваться, как причал, требующий новых трудов, как отвага, которая меряется силами с несоизмеримым.
Кьянезе (Chianese, 2005), используя термин «operatore» — здесь «агент», позаимствованный у Ассуна (Assoun, 1993), который критикует причинно-следственное объяснение бессознательных мотиваций по Фрейду, задает вопрос, остается ли по-прежнему невроз «образцом», пригодным «агентом» для представления современной коллективной формы недовольства, или же более подходящими «агентами» могут быть перверсия, состояние пограничного расстройства личности, состояние меланхолии; потом, однако, он спрашивает также, не является ли врачебным, этическим и культурным долгом психоаналитика признать и понять, насколько изменилось то «гравитационное поле», в котором определяются и размещаются отношения между пациентом, лекарем и миром.
Каэс (Kaës, 2005) дает определение «метапсихических гарантов»: «Это образования и процессы в психической среде, на которой основана и структурируется психика субъекта. Они заключаются, главным образом, в основополагающих запретах и межсубъективных договорах, в которых содержатся организующие принципы структурирования психизма. Они образуют обрамление и фон последнего». (p. 59)
Когда привычные метапсихические и метасоциальные гаранты, всеобщие системы регулирования образований и социальных процессов — такие как мифы и идеологии, верования и религии, власти и иерархия — исчезают или шатаются, тогда субъективность становится опасно неуравновешенной.
Психическое благополучие, ментальное здоровье находятся в гармонии не столько, по-видимому, с Идеалом, сколько с объектом для удовлетворения.
Вопросы помогают приблизиться к сложной картине, пусть даже диалектически расшатывая границы проблемы, тогда как при утверждении реальность прочитывается только однонаправленно, обходя возможность встречи/столкновения со всем тем, что не вписывается в принятую схему толкования. Например, изменения, происшедшие в нравах касательно вопросов секса, описываются как эпохальная перемена, и такой способ определения социальной реальности несет в себе опасность навязывания реальности, которую берутся описывать, исключая какую бы то ни было возможность глубокой критики при наблюдении феномена, который чрезвычайно сложен и многослоен.
Для Фрейда наши взаимоотношения с миром и с самими собой поддерживаются не с помощью объекта, а с помощью отсутствия объекта, и не какого-нибудь, а важного, основного, как например, мать в конфигурации Эдипа. И именно утрата объекта открывает роду человеческому доступ к прочным устоявшимся методам репрезентации.
Неужели мы и в самом деле движемся сегодня, при всеохватном проникновении информации, к такому обществу, где не существует не только отца (кризис власти и построение добровольного ползучего фашизма как ее заменителя), но и скорби (перекрестка всякой интроекции, принятия идентичности и согласия с различиями)? (Barale, 2003).
Прогресс понимается как констатация того, что небеса пусты и в них нет ни Бога[9], ни идеологий, ни обещаний, ни связей, ни предписаний, и что личности пытаются определить себя сами, индивидуально и коллективно. С этой точки зрения, прогресс, с одной стороны, способствует увеличению свободы плавания без помех, без прочных привязок и возможностей передумать, а с другой, приносит с собой цену маниакальной потребности удовлетворять желания всегда и во что бы то ни стало, непроизнесенного вслух намерения возделывать настоящее и заставлять его как можно быстрее приносить плоды (Bodei, 2001), отсутствия отсрочки в получении удовольствии и постоянного наличия объекта, приносящего удовлетворение. Если удовлетворения нет или оно недостаточно, то это рассматривается как скандал, недостаточность, ущерб. Законодательство тоже направлено на перемены в соответствии с появлением все новых потребностей, всегда требующих моментального удовлетворения — потребностей, которые становятся законным правом на совершенное и полное удовлетворение, но которые, с другой стороны, допускают наличие контроля ввиду их тенденции к патологии.
Прогресс всегда состоял в том, чтобы раздвигать границы науки и одновременно с этим — нравственные запреты; однако, в настоящее время этот процесс синхронизации оказался в состоянии кризиса, потому что границы кажутся несостоятельными, расплывчатыми и составляют нечто общее с неустойчивой идентичностью, субъективностью. Излишество становится тенденцией, и теперь уже больше имеет общего не с нарушением, а с предписанием — предписанием излишества как такового, поэтому излишество становится привычкой, выбрасывание — нормой, «нарушение предполагает, что существуют связи, которые нужно разрывать, нормы, которые нужно нарушать, сильную идентичность нужно усмирять, но неразграниченное нарушено быть не может». (Vegetti Finzi, 2001, p. 67)
Изменение, свидетелями которого, как говорят, мы стали, проявляется, в частности, в бесстыдной демонстрации объекта, непрерывное потребительское наличие которого препятствует формированию измерения утраты. Перверсия, с помощью рекламы и СМИ, угрожает сделаться социальной нормой и в этом качестве принципом в общественных отношениях, из-за чего возрастает число явлений «одноразового использования», когда тело рассматривается, как неудовлетворительное, когда партнера оценивают, как оказавшегося не на высоте. Если качество отношений воспринимается как низкое и во всяком случае очень «скоропортящееся», то оно заменяется количеством, умножением и накоплением. Такое предполагаемое изменение всячески превозносится в постмодернистской культуре, как навязывание неорганичного, безличного мира эмоций, которому свойственен безымянный и материализованный опыт.
Принадлежность и идентичность не вырезаны в камне, не обеспечиваются пожизненной гарантией и в значительной мере являются объектом переговоров и могут быть отменены.
Вот что говорит философ Марио Перниола (Mario Perniola, 2003) по поводу вытеснения и представимости тела в современной культуре: «Рок-музыка и деконструктивная архитектура, научная фантастика и виртуальная реальность, наркотики и имидж, киберпанк и сплаттерпанк, художественные инсталляции и металитература, спортивные и театральные перфомансы, экстремальные виды спорта и перверсивная сексуальность — это все проявления, в основе которых лежит не тело, живое и трепещущее, а тело — вещь [...], как противопоставление спиритуалистическому витализму, воспеванию мифа, творения, непосредственности, субъективной подлинности» (p. 134).
Но о чем идет речь: о социологической перемене или об обширном изменении нравов, продержавшемся, на удивление, долго, поскольку было растиражировано СМИ и рекламой, постоянно ищущими новый товар для предложения потребителю, при этом оно не может считаться постоянным и окончательным?
Смысл заключается в необходимости, когда надо, прислушаться к новым организациям психопатологии, вооружиться значительной долей гибкости и осторожности в использовании структурной перспективы, что подчеркивает структурную разницу между неврозами, перверсиями и психозами, исходя из специфичности действующих в них защит.
Амалия Джуффридда (Amalia Giuffrida, 2006) задается вопросом: могут ли перемены в культуре и нравах привести к переустройству известных нам бессознательных призрачных конфигураций, и утратили ли или изменили классические движущие силы психосексуальности свои функции создания хранилища того, что в воображении, — ведь до настоящего времени именно это было особенностью нашей цивилизации. Или же перемены в стиле жизни общества не сводятся к новой мифопоэтике, которая рождается из изменений первичных мифов в силу своего рода круговой обратной связи c тканью социума.
Ди Кьяра (Di Chiara, 1998, p. 4) предлагает провести четкое разграничение между «Неудобством культуры», предложенным Фрейдом (1929), относительно столкновения личности с непреодолимыми конфликтами, которые ожидают его в общественной жизни, и «психосоциальными синдромами», которые он считает высоко патологической социальной вероятностью, где преобладают явления защитного типа, которые соединяются и проявляются в поведении больших групп людей, принося, несмотря на видимость пользы, серьезные помехи и страдания, и по этой причине обладают особенностями, подобными перверсиям (propone di distinguere nettamente).
Нам необходимо уделять значительное внимание наблюдению за изменениями нравов, ведь они очень значительны, хотя и столь же сумбурны, за векторами перемен, которые с большой быстротой могут изменять свою траекторию, при этом справедливо оценивая поведение общества, которое настоятельно отрицает, как принадлежность, так и недостаточность, но избегая катастрофических выводов типа: «все изменилось» или утешительных заключений в том же духе типа: «по существу не изменилось ничего». Так что, стоит пытаться чередовать по-бионовски прерывистость и непрерывность, забывая о памяти и желании, веря в креативность собственного бессознательного, не ища искупления или хотя бы передышки, мечтая о принадлежности, или наоборот, ведя неустанный поиск неизведанных и неопробованных идентичностей, настолько привлекательных и расположенных на расстоянии вытянутой руки, каждая из которых обладает преимуществами — возбуждающими, потому что необычными, и многообещающими, потому что еще не скомпрометированными (Bauman, 2003).
Остается ли по-прежнему невроз «образцом», пригодным «агентом» для представления современной коллективной формы недовольства, или же более подходящими «агентами» могут быть перверсия, состояние пограничного расстройства личности, состояние меланхолии; не является ли врачебным, этическим и культурным долгом психоаналитика признать и понять, насколько изменилось то «гравитационное поле», в котором определяются и размещаются отношения между пациентом, лекарем и миром.
Психоаналитику предстоит принять вызов, который бросает ему общество, на первый взгляд, со все более возрастающим недостатком традиционных точек опоры, ищущее в качестве компенсации такие реперные точки, которые могут заменить те, что воспринимаются как устаревшие и изношенные. Франческо Барале (Francesco Barale, 2003) справедливо утверждает, что психоаналитикам не стоит реагировать на волнения, придерживаясь позиций фундаментализма, имплицитно нормативных, или доводя до полного абсолюта измерение воображаемого с некоторыми его историческими формами.
Петрелла и Берлинчони (Petrella e Berlincioni, 2002) обращают настойчивое внимание на то, что в терапии необходимо в любом случае воскрешать Эдипа, потому что не признают новых реальностей влечений и отношений, которые могли бы послужить ему альтернативой: «Великий нарратив Эдипа, с его эмансипирующим потенциалом, оставляет место другим множащимся образованиям с локальными микронарративами, с неполными фрагментарными объектами и относительной иконографией» (2004, p. 372).
Грин (Green, 2002) тоже не согласен с тем, что он определяет как «прагматику нарративного знания», поскольку «свободная ассоциация разрывает повествование» (p. 331)[10]. Однако Габбард и Уэстен (Gabbard, Westen, 2004) пишут следующее: «В практике психоанализа образовалась бОльшая гибкость и признание неизбежности — и ценности — переговорного процесса, имеющего место у каждой аналитической пары» (p. 117). Однако, если Гринберг (Greenberg, 1995) настаивает, что модель и «правила» изменяются, в зависимости от специфической природы субъективности аналитика и пациента, то Габбард и Уэстен (2004) уточняют, что выбор гибкого поведения не означает, что для часа психоанализа хорошо все, что угодно.
Сложность и неоднородность субъекта, устои, на которых зиждется постмодернистская мысль, не должны вести к неопределенности и абсолютному релятивизму. Аналитик должен соглашаться с неудобством стоять по колено в холодной воде и чувствовать себя ремонтником, который умеет строить с помощью тех материалов, которые есть у него под рукой, в смысле различных теорий, которые могут быть по-разному откалиброваны, в том числе с помощью оригинальных разновидностей проб, которые, начиная со знакомых пейзажей, могут открывать новые пути для познания и отношений. Таким ремонтником, который имеет в виду полифоническое понятие идентичности, идентичность как нечто перемещающееся с места на место, во всяком случае, гораздо больше перемещающееся, по сравнению с прошлым, и внутри круговых сетей, которые представлены слабыми, переливающимися разными цветами, пестрыми экспрессивными формами. Это идентичности переходные, возможно, подготовительные для будущих постоянных идентичностей, но подлинные, и те, которые считаются подлинными по согласованию, задуманные, как то, что надлежит строить в отношениях анализа с помощью подручных материалов, а не как первичная целостность, которую еще предстоит обнаружить.
Рут Штайн (Ruth Stein) тоже говорит о ремонте, подразумевая вероятное сочетание различных теорий психоанализа в клинической работе. Для нее способность держать под рукой ящик с рабочими инструментами дает возможность собрать воедино части разных теорий в хорошем метатеоретическом контексте.
Прогресс понимается как констатация того, что небеса пусты и в них нет ни Бога, ни идеологий, ни обещаний, ни связей, ни предписаний, и что личности пытаются определить себя сами, индивидуально и коллективно.
Американская исследовательница–психоаналитик пишет (1995): «Хороший набор инструментов полезен ремонтнику [Леви-Стросс (Lévi-Strauss, 1985) использовал метафору ремесленника — горшечника для описания современных способов систематизации знания], а теории используются в качестве рабочих инструментов, как говорил Витгенштейн (Wittgenstein, 1953). Чем больше инструментов в теоретическом рабочем ящике психоаналитика, тем больше смысла будет иметь для него пациент, тем больше словарей и образов будет с ним составлено, тем более разнообразными будут эмоции, которые будут переживаться с ним, с помощью процессов интуитивного комбинирования, концептуального смещения, а также самых настоящих процессов сложения и вычитания» (p. 302).
Знание выстраивается, а не открывается; оно базируется на контексте, а не на внешнем основании (Elliott, 2000).
Фред Пайн (Fred Pine, 1989, 1990a, 1990b, 2001) задумывался над способом, с помощью которого можно совместить сразу несколько теорий в психоанализе, отмежевавшись от «великих теорий», которые вмещают все. Он считает необходимым ссылаться на теорию влечений, на эго-психологию, чередуя различные модели, в зависимости от момента и клинической ситуации. Мигоне (Migone, 2004), комментируя его работы, признает важность сосуществования множества теоретических моделей и направлений, но при этом критикует его подход, в котором слишком сказывается влияние герменевтики и радикального конструктивизма.
Сегодня психоаналитик стоит перед «слабым и трудноуловимым субъектом, в котором гораздо меньше глубины и плотности, который кажется почти плоским по всей поверхности, которая становится для него тонким зеркалом, в котором он созерцает себя, как Нарцисс; он введен в сеть быстрого и многообразного опыта и ощущений, которые тоже, в свою очередь, слабы и преходящи». (Ceserani, 2001, p. 178)
Нэнси Ходоров (Nancy Chodorow, 1995), комментируя клинический случай транссексуальности, описанный у Рут Штайн (Ruth Stein, 1995a), определяет как эпистемологическую ловушку защитного типа использование конвенциональных категорий психоаналитической мысли для описания новых перспектив касательно сложности и многообразия гендера. Проще иметь под рукой набор теорий, на которые можно ссылаться, говорит Ходоров, которые можно положить в основу того, что мы выслушиваем, чем оставаться в той самой неуверенности, которую Левенталь и Снелл (Loewenthal, Snell, 2003) называют актом смирения, который может стать могучей терапевтической движущей силой, вызовом всемогуществу, как в пациенте, так и в психотерапевте.
Штайн (Stein, 1995), также в дискуссии, отвечая Ходоров, настаивает, что необходимо иметь двойную позицию, которая позволит вместить и охватить диалектические отношения между (мета)теорией культуры и непосредственным аналитическим опытом. По мнению Рут Штайн, особые клинические теории и общие теории культуры необходимо соединять, даже в конфликте и противоречии между собой. Потребность придать смысл, выстроить убедительный нарратив, объединить правдоподобные эмотивные объяснения должна резонировать с деконструирующими процедурами современной мысли.
Прогресс всегда состоял в том, чтобы раздвигать границы науки и одновременно с этим – нравственные запреты; однако, в настоящее время этот процесс синхронизации оказался в состоянии кризиса, потому что границы кажутся несостоятельными, расплывчатыми и составляют нечто общее с неустойчивой идентичностью, субъективностью.
Штайн пишет: «Пациенты нуждаются в согласованности, а не только во разнообразии, в единстве [...], и не только в распространении, в выстраивании и определении Себя как целостности, чего-то, чего моему пациенту мучительно не хватает. [...] Человек, страдающий пограничным расстройством личности или раздробленностью и отсутствием цельности Я, или же находящийся в шизофреническом состоянии, нуждается в концентрации, в выстраивании в обобщенности (естественно, с помощью анализа). С пациентом в анализе нельзя обращаться как с «субъектом» некоторых современных теорий, как с иллюзией, фикцией, относиться как к просто искусственному продукту культуры или языка» (p. 304).
Чезерани (Ceserani, 1998) считает: «Инструменты толкования в психоанализе представляют собой «сильную и одновременно очень гибкую эвристическую модель, как это следует из сделанного венским учителем, который постоянно вновь и вновь передумывал, пересматривал и добавлял, а также, парадоксальным образом, из беспорядочной и наполненной взаимной руганью истории школ психоанализа, которые годами и десятилетиями дрались друг с другом именно из-за проблем ортодоксального сохранения самой модели или бесконечных предложений ее пересмотреть». (p. 23)
Изменение, свидетелями которого, как говорят, мы стали, проявляется, в частности, в бесстыдной демонстрации объекта, непрерывное потребительское наличие которого препятствует формированию измерения утраты.
Для Ди Кьяра (Di Chiara, 1998) психоанализ в кризисе современности сохраняет позиции рационализма, усиленного сознанием иррационального и его тяжести. Изменение, происшедшее в современном способе бытия (изменения в сущностях, главным образом, в Супер-Эго, и часто встречающаяся потеря субъектной организации), Zeitgeist, духе времени современности заставляет нас иметь дело с такой клинической реальностью, которую мы плохо знаем через полученное образование (Bolognini, 2003), а, следовательно, его следует постоянно пополнять и приводить в соответствие реальности.
Израэль (Israël, 1994) пишет: «Правила, какими бы они ни были, могут подвергаться обсуждению, а в нашей материи — пересмотру, как связанному с сегодняшней ситуацией, так и теоретическому, чтобы избежать опасности сотворить себе из них кумира и утратить весь их жизненный смысл». (p. 33)
А потому не могут служить ответом ни железная защита первоначальных правил, превратившихся во всеобщие законы, под знаменем фетишизации, бюрократической одержимости, ни распад собственной идентичности при отсутствии какой бы то ни было навязанной ценности.
Если не рассматривать те теоретические точки зрения, которые отрицают какую бы то ни было ценность постмодернистских теорий и их возможную связь с психоанализом, то тщательное изучение позиций, которые можно назвать открытыми, приведет к необходимости сопоставления и сосуществования различных психоаналитических теорий. Двусмысленность, характерная для эпохи постмодерна, представляет собой не только опасность, но и благоприятную возможность (Elliott, 2000).
Факинелли (Fachinelli) говорит о «психоанализе вопроса, расспрашивания, противоположном психоанализу ответа». (p. 32)
Мне кажется уместным подчеркнуть необходимость ссылаться на разные направления, на разнообразие и сложность наших сегодняшних перспектив, находящихся в непрерывном и продуктивном развитии, чтобы прийти к возможности их использовать в хорошем метатеоретическом контексте и сравнивать с тем клиническим опытом, который постоянно вносит беспорядок и вновь упорядочивает теоретические системы. Непрерывное передумывание и переоценивание собственной техники помогает освободить ее от микроиллюзий эвристического всемогущества и способствует появлению далеко идущих вопросов по поводу привычных нам ракурсов.
Вот что пишут Ринальди и Станционе (Rinaldi e Stanzione, 2012): «[Гибкость и осторожность полезны], прежде всего, потому, что допускают широкую свободу выражения трансфера аналитика пациенту при таких клинических проявлениях, которые требуют максимального участия трансфера-контртрансфера, как инструмента для приема и в какой-то мере для действия по отношению к преимущественно невытесненному бессознательному и, стало быть, недоступному для перевода». (p. 6)
Речь, разумеется, не идет о теоретико-клиническом эклектизме общего характера или о легких уступках герменевтике и радикальному конструктивизму или, тем более, об отстаивании этакой всемогущей интуитивности, или о том, чтобы не задумываться об относительной совместимости или несовместимости различных теоретических моделей, скорее, — это соотнесение с теоретизацией, одновременно строгой и свободно текущей, живой.
В практике психоанализа образовалась бóльшая гибкость и признание неизбежности и ценности переговорного процесса, имеющего место у каждой аналитической пары.
Стефано Болоньини (Stefano Bolognini, 2010) пишет: «За эти годы я много поездил, как и многие другие итальянские коллеги. Вместе мы посещали рынки, деревни, места поклонения «святыням», дома (а иногда и укрепленные замки [...] других психоаналитических семейств [...]. И я свидетельствую, что итальянские психоаналитики [...] нравятся в целом своей открытостью, готовностью к диалогу, а не строго схоластической или суперэгоистичной направленностью нашей культуры психоанализа, что есть сознательный результат традиции слушать и изучать [...], связанной с нашей дисциплиной в мировом масштабе.» (p. 610)
Объемы и способы такого сопоставления, в том числе в связи с социокультурными изменениями, слишком сильно различаются между собой и будут все больше становиться объектом размышления и углубленного изучения для аналитиков, которым придется иметь дело с новыми разновидностями выражения душевной болезни.
Мани-Керл (Money-Kyrle, 1931) считает: «Если мы хотим жить всегда, то нам нужно продолжать самим адаптироваться к своей среде и адаптировать среду к себе, а кроме того, нам нужно предусматривать и предугадывать те виды адаптации, которые станут в один прекрасный день необходимыми». (pp. 150-51)
Это утверждение одновременно похвала гибкости и твердости, которые, мне кажется, могут иметь значение для психоанализа и для психоаналитиков, открытых для перспектив и творчества во времена постмодерна.
БИБЛИОГРАФИЯ | BIBLIOGRAFIA
1. Agamben, G. (2008). Che cos’è il contemporaneo? Milano: Nottetempo.
2. Agamben, G. (2017). Autoritratto nello studio. Milano: Nottetempo.
3. Arendt, H. (1961). Tra passato e futuro. Trad. it. Milano: Garzanti, 1991.
4. Assoun, P.-L. (1993). Freud e le scienze sociali. Trad. it. Roma: Borla, 1999. 5. Balsamo, M. (2014). Che cos’è il presente? — Editoriale, Psiche, 1: 1-4.
6. Barale, F. (2003). Normale caos dell’amore: corpo, Edipo e sexualtheorie all’epoca della modernità liquida, Psiche, 1: 19-32.
7. Barande I. (1981). Freud insolite, Revue française de psychanalyse, XLV, 3: 453-461. 8. Bauman, Z. (1993). Le sfide dell’etica. Trad. it. Milano: Feltrinelli, 1996.
9. Bauman, Z. (2000). Modernità liquida. Trad. it. Roma-Bari: Laterza, 2002.
10. Bauman, Z. (2003). Intervista sull’Identità. (a cura di B. Vecchi). Roma-Bari: Laterza.
11. Bauman,Z.,Tester,K.(2001).Società,etica,politica.ConversazioniconKeithTester.Trad. it. Milano: Cortina, 2002.
12. Bauman, Z., Mauro, E. (2015). Babel. Roma-Bari: Laterza.
13 Bion, W. R. (1963). Gli elementi della psicoanalisi. Trad. it. Roma: Armando, 1973.
14. Bodei, R. (2001). Il dottor Freud e i nervi dell’anima. Filosofia e società a un secolo dalla nascita della psicoanalisi (Conversazioni con Cecilia Albarella). Roma: Donzelli.
15. Bolognini, S. (2010). Passaggi segreti verso l’inconscio: stili e tecniche di esplorazione, Rivista di psicoanalisi, LVI, 3: 599-613.
16. Capozzi, P. (2003). Ermeneutica e psicoanalisi. In: M. Bezoari, F. Palombi (a cura di), Epistemologia e psicoanalisi: attualità di un confronto, (pp. 85-106). Milano: Centro di Psicoanalisi Cesare Musatti.
17 Ceserani, R. (1998). Forme del postmoderno, Psiche, 1: 19-25.
18. Ceserani, R. (2001). Freud di fronte all’individuo postmoderno. In: F. Borrelli (a cura di), Pensare l’Inconscio. La rivoluzione psicoanalitica tra ermeneutica e scienza, (pp. 177-181). Roma: Manifestolibri.
19. Char, R. (1943-1944) Nota 62. In: Id. Fogli d’Ipnos. Trad. it. Torino: Einaudi, 1968.
20. Chianese, D. (2005). L’infelicità nella civiltà, Psiche, 2: 11-17.
21.Chodorow, N. (1995). Multiplicities and Uncertainties of Gender: Commentary on Ruth Stein’s “Analysis of a Case of Transsexualism”, Psychoanalytic Dialogues, 5: 291-299.
22. Derrida,J.(2001).Sceglierelapropriaeredità.In:DerridaJ.,RoudinescoÈ.,Qualedomani?, (pp. 11-37). Trad. it. Torino: Bollati Boringhieri, 2004.
23. Di Chiara, G. (1998). Prospettive psicoanalitiche per Homo Sapiens, Psiche, 1: 27-33.
24. Eagle, M. N. (2000). La svolta post-moderna in psicoanalisi, Psicoterapia e scienze umane, XXXIV, 4: 5-44.
25. Elias, N. (1987). La società degli individui. Trad. it. Bologna: Il Mulino, 1990.
26. Eliot, T.S. (1932). Selected Essays, 1917-1932. New York: Harcourt, Brace.
27. Elliott, A.(2000).Theambivalenceofidentity:Psychoanalytictheoryinthespacebetween modernity and postmodernity). In: A. Elliott, Ch. Spezzano (a cura di), Psychoanalysis at its Limits, (pp. 110-144). London & New York: Free Association Books.
28. Elliott, A.eSpezzano,Ch.(2000).Rethinkingpsychoanalysisinthepostmodernera.In:A. Elliott, Ch. Spezzano (a cura di), op. cit., (pp. 1-14).
29. Erikson, E. H. (1964). Introspezione e responsabilità. Trad. it. Roma: Armando, 1968.
30. Fachinelli, E. (2022). Esercizi di psicanalisi. Milano: Feltrinelli.
31. Flax, J. (1996). Taking multiplicity seriously: Some implications for psychoanalytic theorizing and practice, Contemporary Psychoanalysis, 32: 577-693.
32. Flax, J. (2000). Final analysis: Can Ppychoanalysis survive in the postmodern West?. In: A. Elliott, Ch. Spezzano (a cura di), op. cit., (pp. 41-62).
33. Freud, S. (1912-1913). Totem e tabù. OSF, vol. 7.
34. Freud, S. (1915-1917). Introduzione alla psicoanalisi. OSF, vol. 8.
35. Freud, S. (1921). Psicologia delle masse e analisi dell’Io. OSF, vol. 9.
36. Freud, S. (1924). Autobiografia. OSF, vol. 10.
37. Freud, S. (1932). Lezione 31. La scomposizione della personalità psichica. In Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni). OSF, vol. 11.
38. Freud, S. (1938[1940]). Compendio di psicoanalisi. OSF, vol. 11.
39. Frie, R.(acuradi)(2004).UnderstandingExperience.PsychotherapyandPostmodernism. New York: Routledge.
40. Frosh, S. (2000). Postmodernism and the adoption of identity. In: A. Elliott, Ch. Spezzano (a cura di), op. cit., (pp. 63-78).
41. Gabbard, G. O., Westen, D. (2004). Ripensare l’azione terapeutica, Gli Argonauti, XXVI, 101: 113-141.
42. Gaburri, E., Ambrosiano, L. (2003). Ululare con i lupi. Conformismo e rêverie. Torino:
Bollati Boringhieri.
43. Giuffrida, A. (2006). Le omosessualità nascoste. In: A. Nunziante Cesàro, P. Valerio (a cura di), Dilemmi dell’identità: chi sono? Saggi psicoanalitici sul genere e dintorni, (165-183). Milano: FrancoAngeli.
44. Glass, J. M. (1993). Shattered Selves: Multiple Personality in a Postmodern World. Ithaca: Cornell University Press.
45. Green,A.(2002).Ideeperunapsicoanalisicontemporanea.Trad.it.Milano:Cortina,2004.
46. Greenberg,J.R.(1995).Psychoanalytictechniqueandtheinteractivematrix,Psychoanalytic Quarterly, 64: 1-22.
47. Hegel, G. W. F. (1833). Lezioni di storia della filosofia (vol. 1). Trad. it. Firenze: La Nuova Italia, 1981.
48. Heller,Á.,Fehér,F.(1988).Lacondizionepoliticapostmoderna.Trad.it.Genova:Marietti,1992.
49. Hoffman,I.Z.(1998).Ritualeespontaneitàinpsicoanalisi.Trad.it.Roma:Astrolabio,2000.
50. Holt, R. R. (2002). Il post-modernismo: le sue origini e la sua minaccia alla psicoanalisi, Setting, 11: 77-99.
51. Israël, P. (1994). Spécificité(s) de la formation analytique, EPF Bulletin, 42 : 31-39.
52. Kaës, R. (2005). Il disagio del mondo moderno e la sofferenza del nostro tempo. Saggio sui garanti metapsichici, Psiche, 2: 57-66.
53. Leary, K. (1994). Psychoanalytic “problems” and postmodern “solutions”, Psychoanalytic Quarterly, 63: 433-465.
54. Lebrun, J. P. (1997). Un monde sans limite. Essai pour une clinique psychanalytique du social. Ramonville Saint-Agne: Erès.
55. Lévi Strauss, C. (1985). La vasaia gelosa. Trad. it. Torino: Einaudi, 1987.
56. Loewenthal,D.,Snell,R.(acuradi)(2003).Post-modernismforPsychotherapists.ACritical Reader. Hove and New York: Brunner-Routledge.
57. Lyotard, J.-F. (1979). La condizione postmoderna. Trad. it. Milano: Feltrinelli, 1981.
58. Marcuse, H. (1963). L’obsolescenza della psicoanalisi. In: Id., Psicanalisi e politica, (pp. 87-108). Trad. it. Roma: Manifestolibri, 2006.
59. Mc Dougall, J. (1978). A favore di una certa anormalità. Trad. it. Roma: Borla, 1993.
60. Melman,Ch.(2002).L’uomosenzagravità.ConversazioniconJ.P.Lebrun.Trad.it.Milano: Bruno Mondadori, 2010.
61. Migone, P. (2004). Sulle “quattro psicologie” di Fred Pine, Il ruolo terapeutico, 95: 87-92.
62. Mitchell,S.(1988).Gliorientamentirelazionaliinpsicoanalisi.Trad.it.Torino:Boringhieri,1993.
63. Money-Kyrle, R. (1931). Le conseguenze remote della psicoanalisi sul comportamento individuale, sociale ed istintivo. In: Id., Scritti 1927-1977, (a cura di M. Mancia) (pp. 119-151). Trad. it. Torino: Loescher, 1984.
64. Nietzsche, F. (1873-1876). Considerazioni inattuali. In: Opere complete, vol. III, t. 1. Trad. it. Milano: Adelphi, 1972.
65. Pasolini, P. P. (1976). Lettere luterane. Torino: Einaudi.
66. Perniola, M. (2003). Incroci (un dibattito tra Camilla Adami, Maurizio Balsamo, Nicoletta Bonanome, Mario Perniola, Lorena Preta, Stefano Rodotà e Tito Spini), Psiche, 1: 133-144.
67. Petrella,F.,Berlincioni,V.(2002).Laclinicaelenuoverealtàtecnologiche.Unariflessione psicoanalitica, Psiche, 1: 171-184.
68. Petrella, F., Berlincioni, V. (2004). Lavoro clinico e quadro socioculturale: le intersezioni, Gli Argonauti, 103: 363-374.
69. Pine, F. (1989). Motivation, personality organization, and the four psychologies of psychoanalysis, Journal of American Psychoanalytic Association, 37: 31-64.
70. Pine, F. (1990a). Drive, Ego, Object and Self. New York: Basic Books.
71. Pine, F. (1990b). Le quattro psicologie della psicoanalisi e la loro importanza nel lavoro clinico, Gli Argonauti, XII, 45: 95-114.
72. Pine, F. (2001). Listening and speaking psychoanalytically — with what in mind?, International Journal of Psychoanalysis, 82, 5: 901-916.
73. Pontalis, J.-B. (1997). Questo tempo che non passa. Trad. it. Roma: Borla, 1999.
74. Preta, L. (2006). Resti del futuro. In: M. Capuano (a cura di). ArchitettonicaMente. Contaminazioni tra architettura e psicoanalisi, Numero speciale di Architetture Pisane, 5: 19-22.
75. Reiche, R. (1968). Sessualità e lotta di classe. Trad. it. Roma-Bari: Laterza, 1969.
76. Ricci, G. (1995). Le città di Freud. Itinerari, emblemi, orizzonti di un viaggiatore. Milano: Jaca Book.
77. Rinaldi,L.eStanzione,M.(2012).Introduzione.In:L.Rinaldi,M.Stanzione(acuradi),Le figure del vuoto, (pp. 5-25). Roma: Borla.
78. Schinaia,C.(2006).Tracontinuitàediscontinuità.Intreccidelmodernoedelpostmoderno in psicoanalisi, Psicoterapia e scienze umane, XL, 2: 165-180.
79. Schinaia C., (2019). Pedofilia e psicoanalisi. Figure e percorsi di cura. Torino: Bollati Boringhieri
80. Schneider, M. (2002). Big Mother. Psychopathologie de la vie politique. Paris : Odile Jacob.
81. Simmel, G. (1989). Diario postumo. Trad. it. Torino: Nino Aragno, 2011.
82. Stein, R. (1995). Reply to Chodorow, Psychoanalytic Dialogues, 5: 301-310.
83. Stern, D. B. (1985). Some controversies regarding Constructivism and Psychoanalysis, Contemporary Psychoanalysis, 21: 201-208.
84. Vegetti Finzi, S. (2001). Corpo-macchina e soggettività femminile. In: M. Galzigna (a cura di), Volti dell’identità. Le scienze psichiche, l’altro e lo straniero (pp. 56-70). Venezia: Marsilio.
85. Virilio, P. (2005). Il mondo fragile. Intervista a cura di Daniel Binswanger, Internazionale, 12, 573: 28-32.
86. Wallerstein, R. S. (1988). One Psychoanalysis or Many?, International Journal of Psychoanalysis, 69: 5-21.
87. Wallerstein, R.S. (1990). Psychoanalysis: The common ground, International Journal of Psychoanalysis, 71: 3-20.
88. Wallerstein,R.S.(1997).Prefazione.In:Sandler,J.,Holder,A.,Dare,C.,Dreher,A.U.(1997), I modelli della mente di Freud, (pp. 9-12). Trad. it. Milano: FrancoAngeli, 2001.
89. Wittgenstein, L. (1953). Ricerche filosofiche. Trad. it. Torino: Einaudi, 1967.
[1] Первым об антропологическом изменении заговорил Пазолини в двух статьях 1974 года, опубликованных в газете Коррьере делла Сера и вновь напечатанных в 1976 году, уже после его смерти, в сборнике статей «Лютеранские письма». Pasolini fu il primo a parlare di mutazione antropologica in due articoli del 1974 comparsi sul Corriere della Sera e pubblicati postumi nel 1976 in Lettere luterane.
[2] Пол Вирилио (Paul Virilio) придерживается мнения, что сегодня уже больше невозможно четко отличать естественные катастрофы от промышленных, то есть тех, которые произошли по причине технологического прогресса. Он пишет: «С приходом двадцать первого века мы вступили в эпоху «интегральной катастрофы», той, что так или иначе затрагивает весь мир. В случае цунами это стало явлением мирового масштаба, потому что коснулось множества туристов; в случае World Trade Center мгновенно возникли драматические последствия для мировой экономики. В обоих случаях сразу же вступает в игру распространение информации по всему миру с помощью СМИ: весь земной шар в реальном времени наполняется картинами катастрофы. С одного конца планеты до другого перекликаются неизвестные до сего момента эмоции». (2005, p. 28) sostiene che oggi non è più possibile distinguere nettamente tra le catastrofi naturali e quelle industriali, cioè causate dal progresso tecnologico, e scrive: “Con il ventunesimo secolo siamo entrati nell’era della “catastrofe integrale”, quella che in qualche modo colpisce il mondo intero. Nel caso dello tsunami l’avvenimento ha assunto una dimensione globale perché ha colpito molti turisti; nel caso del ci sono state subito delle conseguenze drammatiche per l’economia mondiale. In entrambi i casi, entra in gioco la copertura globale da parte dei mezzi di informazione: il mondo intero è stato inondato in tempo reale da immagini catastrofiche. Da un capo all’altro del pianeta sono riecheggiate emozioni mai conosciute prima.”
[3] По поводу критики постмодернизма см. также Eagle, 2000; Frie, 2004; Schinaia, 2005.
[4] Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen, Фауст, часть первая, Ночь. Процитирована Фрейдом в «Тотеме и табу» (1912-1913), в «Введении в психоанализ» (19151917), а также на последней странице «Очерка психоанализа» (1938) — незаконченном тексте, начатом во время Лондонской ссылки. parte prima, scena della Notte. Citata in “Totem e tabù”, p. 161), in “Introduzione alla psicoanalisi” p. 510) e nell’ultima pagina del “Compendio di psicoanalisi”, p. 634), testo rimasto incompiuto e la cui stesura era cominciata durante l’esilio londinese.
[5] Элиот Томас Стернз. Назначение поэзии. Статьи о литературе. — Киев: AirLand, 1996. — (Citadelle).
[6] Эта фраза упоминается в «Металогике» III, 4 Иоанна Солсберийского и приписывается им Бернарду Шартрскому (XII век). Frase menzionata nel Metalogicon, di Giovanni di Salisbury e da lui associata a Bernardo di Chartres.
[7] Laudator temporis acti (Orazio, Ars poetica, 173) (Chi loda e rimpiange il passato).
[8] Friedrich Nietzsche, (1873-1976). Considerazioni inattuali.
[9] Заявление, что Бог умер, было впервые сформулировано Ницше в «Веселой науке», где речь безумного человека знаменует собой конец эпохи, больше того, конец «истории»: причем, эпоха и история понимаются как совокупность человеческого опыта, наделенного окончательным общепонятным смыслом. Лакан добавляет, что проблема заключается не столько в том, что Бог умер, сколько в том, что сам он этого не знает, в том смысле, что сам никогда не был ничем иным, как желанием поручить Другому ответственность за личный выбор, чтобы избежать столкновения с такой особенностью желания, как бесконечность, которая неизбежно приводит за собой недостаточность.
[10] Игл (Eagle, 2000) считает несостоятельными точки зрения четырех современных авторов (Mitchell, Renik, Schafer, Spence), которые с помощью различных методов и стилей пересекаются с постмодернизмом. Эти точки зрения называют «новой парадигмой» и для него они не составляют подходящей основы, на которой можно строить какое бы то ни было понимание аналитической ситуации, понимание мышления пациента, а также будущее развитие психоаналитической теории.