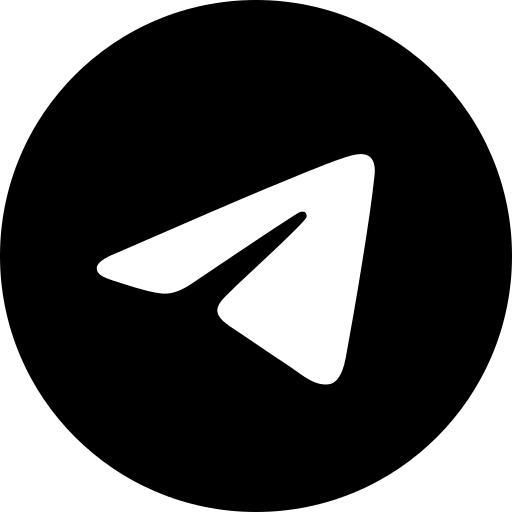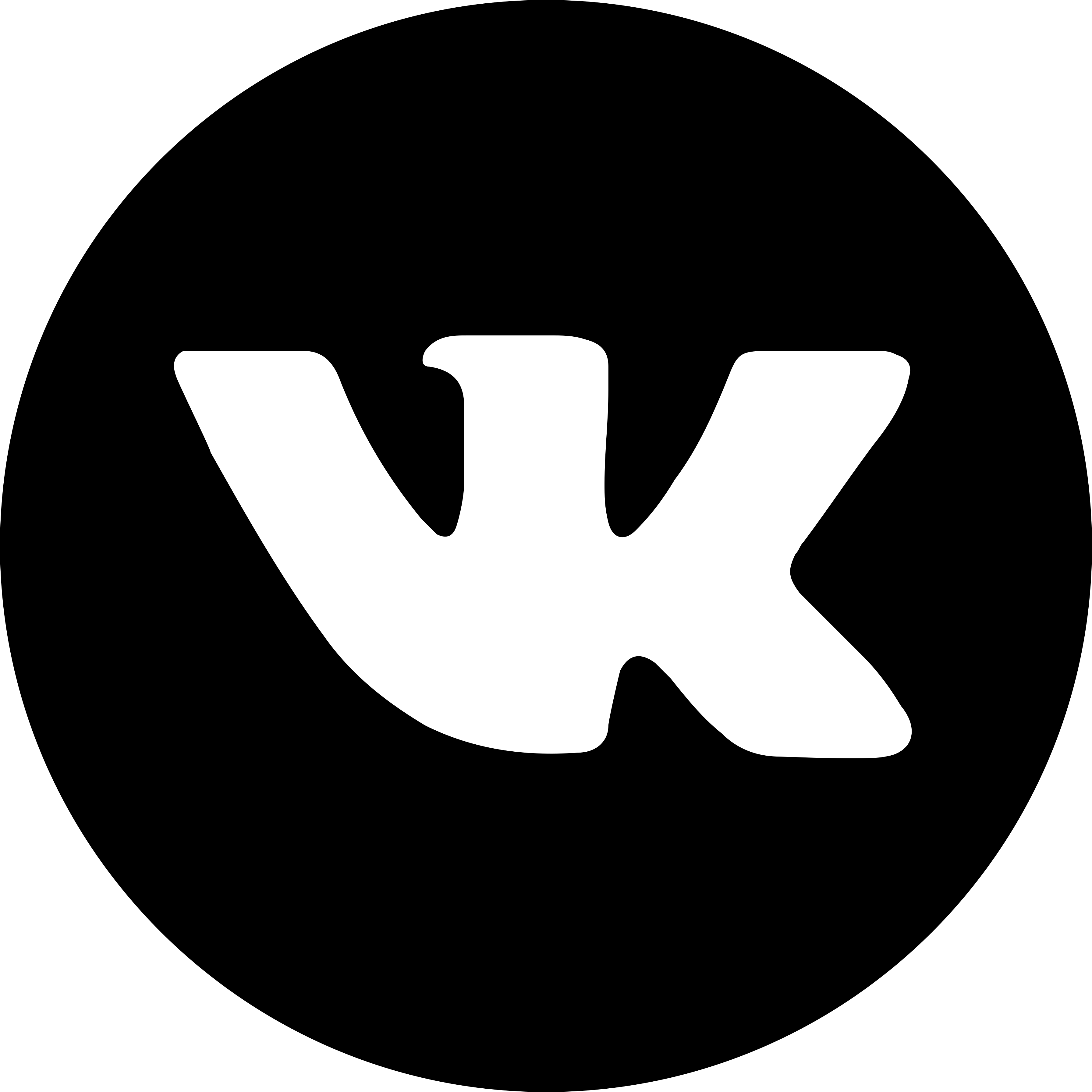- Психолог, психоаналитический психотерапевт
- Член ЕАРПП (член правления РО-Самара)
- Кандидат педагогических наук

- Психолог, психоаналитический психотерапевт
- Член ЕАРПП (член правления РО-Самара)
- Кандидат педагогических наук
Перверсия отличается от невротического, пограничного или психотического состояния.
Согласно словарю Лапланша и Понталиса, перверсия — это отклонение от нормального полового акта, который определяется как коитус с другим человеком противоположного пола, направленный на достижение оргазма посредством генитального проникновения. Перверсия же присутствует там, где оргазм достигается с другими сексуальными объектами (гомосексуальность, педофилия, зоофилия и т.д.) или через другие области тела; там, где оргазм абсолютно подчинён определённым внешним условиям, которые могут быть необходимы сами по себе для получения сексуального удовольствия (фетишизм, трансвестизм, вуайеризм, эксгибиционизм, садомазохизм) [1, с. 751]. В более широком смысле «перверсия» обозначает все психосексуальное поведение, сопровождающее такие типичные способы получения сексуального удовольствия.
В теории Зигмунда Фрейда мужские перверсии считаются результатом неразрешённого эдипова комплекса, в котором кастрационная тревога является главной и основной составляющей, такой мальчик отрицает разницу полов и создаёт фаллическую мать. Когда он достигает зрелости, то он не в состоянии достичь примата генитальной зоны. В этой связи Фрейд писал о том, что «невроз является негативом перверсии» [4, с. 485].
Позднее Э. Гловер выдвинул предположение о том, что перверсии, в свою очередь, являются негативом психоза [цит. по 5, с. 247]. Эта точка зрения также поддерживалась М. Кляйн и её последователями, рассматривающими перверсию как защиту от психоза [цит. по 3].
Часть исследователей определяют перверсию как сформированную систему защит от травмы. Эта система защит помогает выживать и справляться с разрушительными, невыносимыми и омертвляющими ситуациями из раннего прошлого, в результате которых происходит поэтапное обширное диссоциативное расщепление Я. При этом одна часть — эмоционально покалеченная, испытывающая нехватку, безрадостная и безжизненная — продолжает по инерции функционировать во внешнем мире. Другая часть увязла в состоянии страдания, под влиянием навязчивого повторения она стремится к переживаниям боли и тем, кто её причиняет, как внутри самого себя, так и в отношениях с другими. Третья — деструктивная часть, позволяет успешно противостоять любым попыткам хороших объектов перетянуть её на свою сторону. Эта вредоносная составляющая личности не желает зависеть от времени и сталкиваться с депрессивной и персекуторной тревогой, поэтому и пользуется защитными механизмами с целью оборвать связи с реальностью: создаёт путаницу и хаос, подрывает доверие к хорошим объектам при помощи депрессивной тревоги.
Уже на первичных интервью ряд поведенческих симптомов у подростка могут непосредственно указывать на перверсию.
Д. Мельтцер пишет, что «в результате такого расщепления зональная путаница подчиняет себе чувственность, так что нормальная инфантильная полиморфность становится неотличима от перверсии» [2, с. 169].
Далее происходит освобождение от ограничений времени и идентичности путём перепутывания внутреннего и внешнего через проективную идентификацию.
Затем утверждается маниакальное отрицание психической реальности, что готовит почву для последней атаки на различение добра и зла. Деструктивная часть предстаёт перед страдающими хорошими частями в образе спасителя от боли, потом — слуги их чувственности и тщеславия. Роль жестокого палача или карателя она использует скрытно, лишь в тех случаях, когда появляется сопротивление регрессу. Тем не менее, угроза насилия звучит всегда, без неё столь глубокая регрессия вообще не была бы возможна [там же].
Этчегоен пишет, что в основе перверсии лежит защита от психотического регресса, в отдельных случаях перверсия сама может считаться психозом [цит. по Уэллдон, с. 73].
Маловероятно, что родитель придёт к аналитику именно с таким запросом – лечение перверсии у своей дочери или сына.
С позиций структурной теории (З. Фрейд) расщепление Я связано с перманентным конфликтом между эго и ид, а деятельность суперэго составляет основу перверсии.
Ид возбуждает эго причудливыми фантазиями, оказывает на эго давление с тем, чтобы эго сдалось и уступило под натиском растущих потребностей ид. Эго поддерживается суперэго, которое борется против реализации фантазии, поскольку она кажется несовместимой с целостностью эго. По мере того, как желание нарастает, требуется его реализация. Вскоре эго под растущим давлением ид сдаётся и уступает, осуществляя «разыгрывание». Поскольку частично действие стало эго-синтонным, это создаёт возможность для реализации перверсии. Цель достигнута разрядкой сексуального желания. Но обретённое чувство благополучия быстро заканчивается. Его немедленно сменяют чувства: вины, отвращения к себе, стыда и подавленности. Разыгрывание снова ощущается как эго-дистонное, и движение по кругу возобновляется [3, с. 83-84].
Вместо удовлетворения влечений вместе с объектом, в который было инвестировано либидо, перверт остаётся обделённым человеком, единственным удовольствием которого остаётся приятная разрядка.
Возможно ли позитивное преобразование подобной травмы в процессе психоаналитической терапии, в частности, в работе с подростком?
Маловероятно, что родитель придёт к аналитику именно с таким запросом — лечение перверсии у своей дочери или сына. Согласно моим наблюдениям, проблемы, покрывающие перверсию, с которыми вынуждены обратиться родители к аналитику (или старшие подростки уже самостоятельно) следующие: плохая учёба (неуспеваемость, прогулы, безответственность, низкая мотивация), нарушения в поведении, проявление агрессии по отношению к другим и к себе, здесь же расстройства пищевого поведения, истерики, вспышки гнева, трудности в установлении близких отношений и подобное.
Поэтому уже на первичных интервью ряд поведенческих симптомов у подростка могут непосредственно указывать на перверсию. Также сбор анамнеза из беседы с родителями, в частности, история рождения ребёнка, его раннего развития, а также истории жизни самих родителей и их проблем, даже в самых общих чертах, с первых встреч наталкивают на мысль о том, что мы оказываемся в поле тяжёлой клинической сексуальной психопатологии, относящейся к перверсии.
В психоаналитической литературе описано много примеров работы со взрослыми первертными пациентами, в то время как исследований перверсий у подростков гораздо меньше. В основном, в поле внимания аналитиков попадают молодые люди, совершившие тяжкие преступления — насилие, садизм, жестокое обращение. Но и в наших кабинетах мы можем встретиться с такими пациентами, пусть, к счастью, и с менее брутальным поведением.
Итак, ведущие признаки для диагностики перверсии, органично вытекающие из вышеназванных теорий и механизмов формирования перверсии [3, с. 79-81]:
Инкапсуляция (уход, обрыв связей с внешним миром), огромный страх быть обнаруженным.
Компульсивность и повторение.
Истинная сексуальная перверсия всегда включает использование тела. Причём, сценарий всегда узкий. Жёсткое ограничение в выборе сексуальной стратегии поведения. Неспособность вступать в полноценные объектные отношения и склонность к обману влекут за собой эмоциональные трудности, возникающие при попытке выстроить любовные и сексуальные отношения.
Сексуализация, как ведущий защитный механизм при перверсии, замещает способность думать, поэтому символическое значение ускользает от сознания пациента. При символическом оскудении на первом плане оказываются влечения, которые камуфлируются под действия.
Враждебность и ненависть. При этом перверт совершенно не осознаёт объекта своей ненависти, а также причины своего желания отомстить. Враждебность включает унижение, направленное на партнёра или на себя.
Материнство становится подходящим средством реализации первертного поведения.
Сильный страх оказаться в ловушке или захваченным ведёт к потребности в полном контроле.
Вместо удовлетворения влечений вместе с объектом, в который было инвестировано либидо, перверт остаётся обделённым человеком, единственным удовольствием которого остаётся приятная разрядка.
Рискованное поведение и маниакальность. Влечение к смерти заставляет испытывать постоянную и непреодолимую тягу к ситуациям, ставящим их жизнь под угрозу. Риск может служить возбуждающим фактором. Ощущение «заигрывания со смертью» даёт ощущение жизни. Происходит эротизация смерти. Любой вид рискованного поведения можно понимать как маниакальную защиту от неспособности горевать, т.е. от депрессии, от психической боли.
В каких отношениях формируется будущий перверт?
Схема несложная: необходима мать с первертными наклонностями, первертный тип отношений в родительской паре, в истории такой семьи — повторяющиеся циклы насилия, как минимум, в трёх предыдущих поколениях.
Первертные матери — часто молодые женщины, в анамнезе которых были пищевые расстройства и/или случаи самоповреждения. Можно говорить о том, что в психосексуальном аспекте такие матери гомосексуальны. Об этом пишет Ж. Шассге-Смиржель при рассмотрении анального пространства перверсии, в котором упраздняются все различия между полами и поколениями [3].
И мужчины, и женщины используют для перверсии свои репродуктивные функции и органы. При этом женщина использует всё тело, поскольку её репродуктивные и сексуальные органы располагаются в различных частях тела, и его неотъемлемые свойства, включая фертильность. Если у мужчин садистические действия направлены на внешний частичный объект, то у женщины действия направлены против себя — против своих тел или против объектов, которые они рассматривают как собственные творения, т.е. против детей. Поэтому материнство становится подходящим средством реализации первертного поведения [3, с. 97].
Французские аналитики разработали концепцию «фетишистского объектного отношения» матери к ребёнку. Первоначально ребёнок отождествляется первертной матерью с недостающим фаллосом, а затем становится её вещью или игрушкой, что делает это взаимоотношение похожим на отношения с частичным объектом у первертов-фетишистов.
Также рождение ребёнка может быть единственным способом понять и выразить собственные эмоциональные потребности, которые прежде не были ими осознаны и не адресовались кому бы то ни было. Такие женщины колеблются между восприятием своих детей либо в качестве здоровой части себя, либо в качестве недооценённых зеркальных отражений самих себя. Первертная мать ощущает своего ребёнка как часть себя, с которой она никогда не расстанется, и не позволит ему развить свою собственную гендерную идентичность, уже не говоря о достижении индивидуации [3, с. 128].
Для первертной родительской пары характерно ощущение взаимозависимости и поглощённости; эти отношения помогают им поддерживать связь посредством действий садистского и сексуального характера, совершаемых против зависящих от них людей. Дети представляют собой отщеплённый травмированный интроект родителей. Родители реагируют на «угрожающего ребёнка» (их интроект) либо диссоциативным поведением, либо действуют по принципу «бей и беги». Родители таких детей находятся в «злокачественной связи», «родители-союзники» в садистических атаках на ребёнка. Фантазм первосцены у растущего в такой паре ребёнка имеет насильственный характер [3, с. 107].
Рождение ребёнка может быть единственным способом понять и выразить собственные эмоциональные потребности, которые прежде не были осознаны и не адресовались кому бы то ни было.
Мельтцер пишет, что в норме в первичной сцене мы можем выделить «пятерых участников: мать, отца, мальчика, девочку и внутреннего младенца матери <...> Психикой индивида в норме в полиморфном состоянии управляет эдипов комплекс с его соперничеством, ревностью и склонностью искать такие решения проблем, которые не требуют отказа от прав на объект или откладывания удовлетворения [2, с. 152]. «Перверзная сексуальность выводит на первичную сцену дополнительную, шестую фигуру — «чужака», постороннего, врага родительского творчества, нарушителя семейной гармонии и любви, вредителя, циника и злодея, несущего на себе Каинову печать» [там же, с. 158].
Эта часть личности, которая в норме присутствует в процессе развития у любого ребёнка, описана в работах М. Кляйн. Степень её вредоносности можно снизить при помощи опыта здорового развития и при помощи терапии. В случае нарушенного развития эта злонамеренная часть личности объединяется с плохими объектами, рождается садистское суперэго [там же, с. 158-159].
Садистское суперэго сформируется у ребёнка, чей родитель сам серьёзно нарушен, и плохая часть имеет шанс на сговор и слияние [там же, с. 159]. Вырастая, они берут первосцену под свой контроль, они больше не ждут за дверью, а становятся кукловодами, направляющими совместные усилия на повторное разыгрывание болезненного прошлого уже со своими жертвами, для которых участие в этом процессе становится способом выживания.
Ребёнок идентифицируется с проекциями родителей, что ведёт к инверсии отношений между контейнером и его содержимым. Такая инверсия приводит к осложнениям в процессе сепарации-индивидуации. Дети не в состоянии уйти от своих травмированных родителей, не могут выражать злость и легко оказываются жертвами очередного насилия [3, с. 105].
В семейной динамике отец обычно выступает в роли насильника, а мать или жена пребывает в «блаженном» неведении о подобном развитии событий. Впоследствии у этих женщин может наступать сильнейшая тоска, эмоциональная боль и отчаяние. На консультации мы можем услышать фразу «если бы я могла повернуть время вспять, я сделала бы иначе».
Во внутреннем мире такого пациента аналитик (пол не имеет значения) окажется садистичной матерью, а аналитические отношения будут окрашены в безобразные цвета перверзного союза; терапевтический альянс, если и будет установлен, будет вынужден выдерживать шторм атак внутреннего Дьявола, завуалированного в тонкие соблазняющие манипуляции.
Один сеанс в неделю — «это больше, чем они (а также и мы) могут перенести, а остаток недели используется для переваривания интерпретаций, такие пациенты в своей голове находятся в постоянном «диалоге» со своими терапевтами» [3, с. 101].
Анализ перверсии — это вопрос понимания и интерпретации явлений переноса.
Перверсный пациент склонен к отыгрыванию, НТР, обращаемой перспективе. С помощью механизма обращаемой перспективы (У. Бион) оказывается ожесточённое сопротивление принятию интерпретаций, которые могут привести к активным внутренним преобразованиям, а также осознаванию [3, с. 98-99].
Первертная мать ощущает своего ребёнка, как часть себя, с которой она никогда не расстанется, и не позволит ему развить свою собственную гендерную идентичность, уже не говоря о достижении индивидуации.
У аналитика, работающего с такого рода пациентами, будут возникать «фантазии о спасении», нетерпение, желание «догнать и причинить добро». Терапевты, испытывающие стыд из-за возникающего у них нетерпения и разочарования могут пытаться скрыть их под мягкими и добрыми реакциями, которые не только бесполезны, но и вызывают презрение у таких пациентов. Они, в принципе, испытывают презрение к этому миру, в котором их отвергали, бросали и унижали те, кто должен был о них заботиться [3, с. 103].
Склонность заигрывать с опасностью для поддержания ощущения себя живым бессознательно проявляется и в контрпереносе, аналитик может чувствовать себя возбуждённым, завороженным и соблазнённым психопатологией пациента, захваченным «первертным сговором». Хотя этот период можно рассматривать как «достаточно хорошую» терапию [3, с. 98].
На определённых этапах психоаналитического процесса такие пациенты неизбежно начинают пытаться «вырвать» аналитика из привычной роли и изменить структуру аналитического процесса таким образом, чтобы она соответствовала структуре их перверсии [2, с. 236].
Ещё раз повторю, что особое внимание в процессе работы должно принадлежать анализу переноса, так как только это поможет справиться с проблемами, вызванными диссоциацией эго, смешением субъекта и объекта, превращением желания в мировоззрение.
В моей практике были случаи обращения и самих подростков, имеющих перверсии, и их родителей. К сожалению, чаще всего такие пациенты (родители таких пациентов) склонны саботировать терапию, вероятен обрыв на ранних стадиях анализа. В приведённом клиническом случае, как только начались первые успехи в анализе, также произошёл обрыв терапии на третьем году по причине «финансовых трудностей в семье».
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Ко мне обратилась мама Степана (14 лет) с жалобами на проблемы обучения у сына. Он рискует быть отчисленным из общеобразовательной школы, не сдать ОГЭ. Несмотря на то, что Стёпа — неглупый парень, он учится на двойки, конфликтует с одноклассниками и с учителями. При каждом удобном случае он пропускает учёбу, и если бы родители не заставляли его ходить в школу, то он и не ходил бы. Запугивание и увещевание уже не помогают, ему всё равно. У матери было желание перевести его на домашнее обучение, но отец категорически против. Выполнение домашних заданий, начиная с 1 класса, тщательно контролировалось родителями и репетиторами.
Степан — старший ребёнок из троих детей в семье (второй ребёнок наблюдался у психиатра, третий — у невролога). На момент обращения родители уже несколько лет были в разводе, дети постоянно жили с матерью, отец периодически общался с детьми (чаще всего приходил, не предупреждая, когда ему захочется).
Садистское суперэго сформируется у ребёнка, чей родитель сам серьёзно нарушен, и плохая часть имеет шанс на сговор и слияние.
У обоих родителей в их семейных историях присутствует насилие, в том числе сексуальное насилие над женщинами, рукоприкладство мужей над жёнами, отцов над детьми.
Родители Стёпы — уважаемые люди в своём небольшом провинциальном городе, за несколько лет организовали общий бизнес, зарабатывали неплохие деньги. Однако, дома отец периодически издевался над матерью в присутствии детей — бил, оскорблял, унижал, однажды даже вызывали полицию, чтобы его усмирить. Степану тоже регулярно доставалось. Отец хладнокровно бил сына, унижал словами, через некоторое время, правда, предпринимал попытки извиниться. Стёпе доставалось за учёбу, прогулы и не только. Из-за страха перед наказаниями Степан научился изощрённо врать, но за ложь отец наказывал ещё сильнее.
На первой родительской встрече мать много говорила мне о том, как сожалеет, что не смогла защитить детей раньше, изолировать их от такого отца. Характеризовала бывшего мужа словами «мразь», «ублюдок», «ненавижу его».
Первое моё впечатление от встречи со Стёпой было довольно запоминающимся. В кабинете на меня смотрел подросток, в глазах которого было много боли, злости, обиды и какой-то отстранённости. Он выражал желание поработать с психологом, сказал, что очень интересуется психологией. Первые месяцы анализа с трудом устанавливался сеттинг. Степан всячески саботировал наши встречи — забывал, опаздывал, просил отменить, сделать встречи более редкими: не раз в неделю, а, например, раз в две-три недели. Если приходил, то мог долго молчать или дремать, растянувшись на кушетке, несмотря на нашу договорённость относительно телефона, переписывался в чатах с друзьями. Я сказала, что если он не готов работать, не хочет, то никто его мучить не будет, терапия — дело добровольное, мы можем закончить нашу работу. Придёт тогда, когда будет готов. Он воспротивился окончанию наших встреч, начал включаться, меньше опаздывать, пропуски сессий сократились.
Первое время он рассказывал мне о своей дворовой компании, о мальчиках, с которыми гуляет или играет в компьютерные игры, упоминал про сюжеты игр. Слушая эти истории, я постепенно складывала его портрет из мозаики интроектов и внутренних образов. Про мать и отца в первые полтора года работы он не говорил практически ни слова. Если говорил, то моментально менялся в лице, бледнел, будто бы убегал далеко вглубь себя.
В первый год терапии ему вообще не хотелось со мной разговаривать, выуживать из себя мысли, воспоминания, слова, как будто ему очень хотелось выговориться, но он не мог.
Первый год я сама сильно нервничала перед встречами, не могла ни на чём сконцентрироваться, с какой-то тяжестью предвкушала наше со Стёпой общение, мучилась из-за того, что так трудно даются интервенции, постфактум часто критиковала себя за них.
Анализ перверсии – это вопрос понимания и интерпретации явлений переноса.
Было ощущение, похожее на вину за то, что я трачу его время и мучаю его (и себя) целых 50 мин. Я, аналитик, — всего лишь бесполезная сиделка (няня, репетитор) и наблюдатель (депрессивная безжизненная мать), которая не участвует в его жизни и реально ничем помочь не сможет. Параллельно с ощущением какого-то паралича, у меня была стойкая уверенность, что парня можно и нужно спасти, именно спасти. Через проективную идентификацию он сообщал мне, что жизни в нём мало, поэтому нужно, чтобы его кто-то тащил; что он — жертва насилия со стороны отца, спасатель матери и братьев, и, одновременно, сам — преследователь. В анализе тоже преследователь. Он «издевался» надо мной, над сеттингом, над процессом терапии. Иногда я ощущала жертвой и себя, мне хотелось заскулить от несправедливости и убежать, отказаться от работы с ним.
Ближе к третьему году работы ассоциации Степана стали постепенно наполняться историями — он мог всю сессию говорить о конкретной ситуации в школе, или о компьютерной игре, сюжете, герое. Начали появляться небольшие успехи в учёбе. Он начал упоминать об отце, в основном, как он врывается в относительно спокойную жизнь семьи, кричит на детей, угрожает, пытается всё контролировать, грозится оставить семью без денег, без алиментов.
Склонность заигрывать с опасностью для поддержания ощущения себя живым бессознательно проявляется и в контрпереносе, аналитик может чувствовать себя возбуждённым, завороженным и соблазнённым психопатологией пациента, захваченным «первертным сговором».
Однажды на встрече, между прочим, Стёпа поведал, что с детства практикует анальную мастурбацию. С этого момента рассказы Стёпы стали насыщаться ассоциациями, связанными с сексуальностью и насилием — темами войны, постапокалипсиса, прочитанными и увиденными в кино историями о пленных, их борьбой за выживание. Говорил о девушках, о том, что они ненадёжны, поэтому ему не интересны, и что он не собирается никогда заводить никаких отношений.
Мой эмоциональный отклик стал спокойнее. Чаще стала накрывать скука, сонливость. Бессознательно мне хотелось укрыться от того, что скрывалось за этой скукой — от чего-то мучительного — агрессии, убийств, искалечения. Будто бы закрыться, не слушать, не быть в контакте с содержанием бессознательного пациента.
Проанализируем то, что происходило...
Когда Стёпа говорил о мастурбации, важно понимать, что речь шла не столько о сексуальном удовольствии, сколько об избавлении от невыносимого напряжения. Его анус в бессознательной фантазии — это анус отца, которого нужно уничтожить, убить. Анальная мастурбация — фантазия об убийстве отца-психа-садиста. Рассказывая про это, он показывает, что он — жертва, которую насилуют до сих пор, всегда насилуют.
Особое внимание в процессе работы должно принадлежать анализу переноса, так как только это поможет справиться с проблемами, вызванными диссоциацией эго, смешением субъекта и объекта, превращением желания в мировоззрение.
Анус стал объектом, неким пространством, которое позволяет перевернуть ситуацию: это не Стёпу насилуют, теперь насилует он.
С другой стороны, можно было думать и о том, что анус — это он, то, что с ним совершают мать и отец, как бы проводят над ним опыты, запихивая в него свои ужасы, страхи брошенности, ненужности. Чтобы избавиться от этих невыносимых переживаний, он должен представить это как сновидение, но в силу дефицита способности к символизации, он разыгрывает это буквально через анальный коитус. Он поочерёдно становится то матерью, то отцом, а также наблюдает половой акт родителей — первосцену. В этих фантазиях о первосцене ему нужно испоганить любовь, контакт, связь родительской пары. Наказать психа-отца (ведь если убить садиста, то это вовсе и не преступление, не правда ли?), и мать-проститутку, которая должна принадлежать только ему (Стёпе). В этом смысле речь также идёт об инцесте. Ведь если бы он сам совершил половой акт с матерью, тогда родился бы новым, другим человеком, не тем, который появился от отца, так как от такого отца рождаются только ненужные ублюдки. Мы наблюдаем буквальный Эдип, наполненный особым садизмом. Мать-Иокаста не ждала Стёпу-Эдипа, потому и отдала отцу-Лаю на уничтожение, в качестве груши для битья. Эти родители (сговор и злокачественная связь родительской пары) не хотели ребёнка. Значит, им нужно отомстить.
У Стёпы в фантазиях война, убийства, расчленёнка, персекуторная тревога, преследующие объекты. И одновременно — это не просто фантазии, это реальность его дисфункциональной семьи.
Фаллоимитаторы как острые иголки периодически внедряются в него. Иголки — это ярость, гнев, обида, беспомощность, ненависть, зависть. От них невозможно никуда деться. Поэтому и с одноклассниками он ведёт себя как отец-садист — внедряет в них свои изгоняемые слабые, не способные защитить себя части. Вообще учиться — значит интроецировать. А он переполнен болью. Он везде чудовище, изгой, ни свой, ни чужой.
Аналитическая связь также должна быть уничтожена — она насилующая. Ведь у аналитика есть надежда на то, что он оживёт, соберёт своё Я, но тогда он почувствует боль и снова будет страдать. Как ему найти выход из этой ситуации? Никак, только убивать тех и то, что причиняет боль.
При перверсии речь идёт не о сексуальности, а о сексуализации, как защите от невыносимых переживаний.
Таким образом, если отнестись к факту его перверсии не как к конкретной ситуации, а как к его мышлению, тогда становится понятно, чем он переполнен, из чего он состоит. Он состоит из бета-элементов, совершенно не обработанных переживаний, которые связаны с яростью, ненавистью к матери и к отцу, потому что они занимаются сексом и делают, что хотят. А он — это монстр, чудовище, которое вершит ужасные дела, он — убийца, но убийца легитимный, который «по закону» (так надо, приходится убивать). Приходится иметь дело с Дьяволом, «убивать» отца и мать, потому что они виноваты, так как испортили ему всю жизнь.
ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ В АНАЛИЗЕ?
С одной стороны, не быть садистом и преследующим объектом — не расспрашивать и не конфронтировать его фантазии об убийстве, так как это сталкивает его с ужасом от того, что он «творит». Его агрессивные, ненавистные фантазии смешаны с фекалиями, с убийством, с инцестом. И, вместе с тем, не быть слабаком — не бояться говорить на те темы, которые он приносит. С интересом рассматривать эти картинки. Если он об этом не боится говорить, но меня напугал, значит, что он очень опасный, терапия никуда не движется, и он «взрывается», аналитик не работает как контейнер.
Итак, подводя итог, ещё раз отмечу, что при перверсии речь идёт не о сексуальности, а о сексуализации как защите от невыносимых переживаний. Речь идёт о насилии на уровне эмоций, которое должно быть как-то облечено в какую-то форму. На примере клинического случая я старалась показать, как пациент-подросток буквально разыгрывает бессознательную фантазию, как если бы это было его сновидение. Он не может сознательно об этом фантазировать, он это делает. Это принудительная компульсия, вызванная насилием эмоций.
Перверсия — попытка выплеснуть эмоции для того, чтобы контейнер был под контролем, так как в основе этого очень много надежды на то, что мать будет удержана и сконтейнирует его ужасы, сможет услышать, принять его таким ужасным и одновременно слабым, беззащитным, страдающим, и, наконец-то, защитить.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу// под ред. Н.С. Автономовой. — СПб. : Центр гуманистических инициатив, 2010. — 751 с.
2. Мельтцер Д. Сексуальные состояния разума. — М. : Институт Общегуманитарных Исследований, 2021. — 314 с.
3. Уэллдон Эстела В. Игры с динамитом. Индивидуальный подход к психоаналитическому пониманию перверсий, насилия и преступности. — М. : Издательство «Перо», 2017. — 381 с.
4. Фрейд З. Большая книга психоанализа. Введение в психоанализ. Лекции. Три очерка по теории сексуальности. Я и Оно. — М. : Издательство АСТ, 2015. — 527, [1] с.
5. Этчегоен Горацио Р. Основы психоаналитической техники. — М. : Когито-Центр, 2020. — 1010 с.