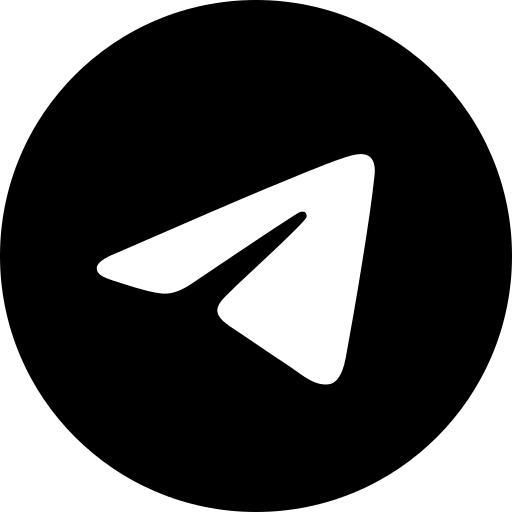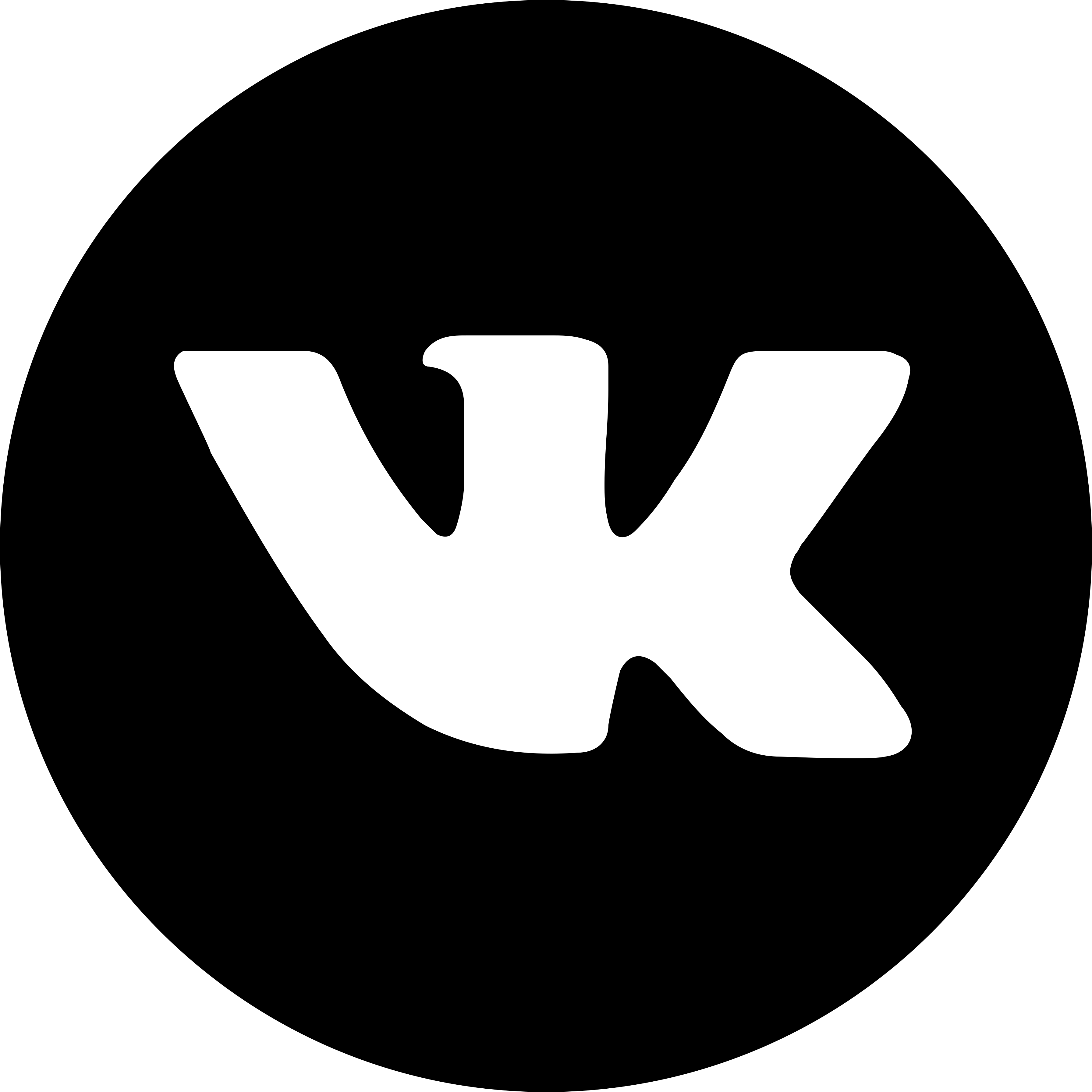- Дизайнер-иллюстратор
- Психоаналитик
- Член ЕАРПП
Статья содержит большое количество фотографий и иллюстраций, они будут загружены на текущую страницу позже. Вы можете ознакомиться с полной версией статьи, скачав прикрепленный pdf файл.
В современном психоаналитическом дискурсе принято разделять защитные механизмы на два основных вида: защиты первого порядка (примитивные) и защиты второго порядка (высшие). К первому виду относятся защиты, которые имеют дело с границей между Я и внешним миром, они связаны с довербальной и доэдипальной стадией развития психического аппарата.
Защитные механизмы или психические защиты создают ту или иную степень искажения реальности, в то же время давая возможность адаптироваться к ее требованиям. Причинами, побуждающими защиту к действию, являются различные виды тревоги, вызванные увеличением напряжения со стороны бессознательного (влечения) или со стороны внешнего мира. В целом, с позиции психоанализа, тревога считается стимулом к развитию, поэтому предполагается, что почти все защиты играют свою конструктивную роль в нормальном психическом развитии.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТИЛЯ КИБЕРПАНК
Формирование стиля началось с литературы: впервые термин «киберпанк» употребил американский писатель-фантаст Брюс Бетке, который в 1983 г. выпустил рассказ с таким названием. Можно сказать, что произведения киберпанка посвящены «приключениям условных персонажей в условных мирах». Американский писатель-фантаст Майкл Суэнвик, характеризуя этот жанр в литературе, писал, что «для их [киберпанков] фантастики характерны описания мира будущего, основанного на высоких технологиях и широком применении компьютеров, чрезвычайно плотная, «сбитая» проза и близость к панковским взглядам, включая антагонизм к любым властям и яркие, изобретательные детали <...> Второй очень важный элемент, отличающий данное направление, — это то смешанное чувство любви-ненависти к «технологии», истоки которого можно обнаружить как в самом жанре, так и за пределами его» [11].
Термин «киберпространство» был введен в культурный обиход после выхода в свет романа У. Гибсона «Нейромант» («Neuromancer», 1984 г.) При этом необходимо различать реальное киберпространство (в котором все же действует принцип реальности, имеются технические и другие ограничения) и фантазийное киберпространство в произведениях авторов киберпанка, как писателей, так и художников, которое подобных ограничений не имеет. С момента своего появления в середине 90-х годов ХХ века «реальное» киберпространство (виртуальное пространство, виртуальность) воспринималось как символ, обобщенно демонстрирующий те глубокие культурные и технические изменения, которые перевернули представления человека о мире в конце ХХ века. С конца 90-х годов «при анализе любого объекта, в том числе объекта искусства, наблюдается возвышение таких черт как децентрализация, десинхронизация, разнообразие, одновременность, анархизм» [3, с. 263]. Наиболее важным становится усиление роли информации и возможность появления качественно новых, внезапно возникающих и трудно объяснимых явлений (информационные вирусы, мемы и т. п.). Киберпространство соответствует всем этим специфическим особенностям и может быть описано как саморегулирующееся, анархичное, децентрализованное и эмерджентное. Оно является новой формой коммуникации, новым способом действия, новым пониманием способа перемещения в пространстве. «Киберпространство втягивает в себя огромное подвижное информационное поле, сгустившееся над планетой. Виртуальные миры нельзя рассматривать просто как альтернативу реальному миру или как замену реальности, в них следует видеть некую сверхразмерность, то есть выход за пределы привычной трехмерности» [3, с. 265]. В искусстве это выразилось в создании новой эстетики, когда качества изменчивости и текучести, свободы от гравитации, эфемерности и дисфункциональности становятся определяющими.
Вместе с тем, освоение киберпространства порождает целый ряд проблем, в первую очередь, связанных со скоростью происходящих изменений, а также с возросшими требованиями к скорости восприятия, которая у человека, в отличие от компьютерных систем, слабо поддается изменениям, и восприятие легко перегружается. Технологии, с помощью которых человек несется в будущее, создают непредсказуемый и неподчиняющийся известным системам управления мир, а само будущее оказывается весьма пессимистичным. Эта пессимистичность и антиутопичность присущи и киберпанку, как стилю, с самого его появления. В произведениях этого стиля разворачиваются сложные витиеватые взаимодействия человека и цифровой сети, присутствуют машинно-человеческие интерфейсы, органические и неорганические киберимплантаты, цифровые двойники реальных объектов. Компьютерные системы являются основой жизни общества и государства, различных ведомств и учреждений. Мир киберпанка — это мир высокоурбанизированной культуры, с резким социальным расслоением и контрастом высокого хайтека и крайней нищеты. В его мрачноватых городских кварталах, каменных джунглях с канализационными испарениями складывается особое символическое и смысловое пространство. Общий сюжет киберпанковских работ — это мотивы «борьбы так называемых хакеров, людей «живущих» виртуально, с гигантскими мегакорпорациями и иными транснациональными структурами, обладающими властью в обществе. Борьба осложняется тем, что власть таких мегаструктур носит неявный, трудно идентифицируемый характер» [5, с. 145]. Главные герои киберпанка часто выступают маргиналами, не обладающими системными качествами воспитания, образования и другими знаками причастности индивида культуре. Довольно резко звучат мотивы личной свободы и ценности справедливости, однако реализация и закрепление такой свободы чаще носят разрушительный характер, свойственный контркультуре. «Отрицается не только классическая духовность, но и традиционное понимание научно-технического прогресса как ступенчатого продвижения вверх по лестнице, освещенной разумом и научным познанием» [4, с. 37].
С одной стороны, весь киберпанк опирается именно на высокотехнологичные достижения науки и на самые передовые и фантастические технологии, киберпространство всецело искусственно, виртуализировано, но, с другой, все это мироустройство, живущее по законам глобальной Сети, ложно и фальшиво. Универсализм структур и мегакорпораций образует такую систему, вне которых оказывается практически невозможной социализация личности и построение индивидуальной стратегии жизни. Только через Сеть индивид может выразиться и как-то обозначить свое присутствие, и в то же время именно этим он прочно связывает себя с невидимыми акторами и схемами. Отдельный человек в таких схемах оказывается простой функцией. «Жизнь внутри тоталитарной системы с полным цифровым контролем над умами людей невозможна; остается только животное существование, которое и в страшных снах не являлось ни Замятину, ни Хаксли» [10].
Центральной проблемой в кругу других тем, связанных с развитием киберкультуры представляется проблема телесности. Так как основное условие успешного функционирования киберпространства состоит в обеспечении эффекта реальности, а его достижение возможно только в том случае, если человек сможет воспринимать нефизическое окружение. В технологических разработках виртуальных систем это выглядит как задача манипуляции человеческими переживаниями и опытом при помощи стимуляции сенсорного аппарата. Что может, в свою очередь, привести к изменению экзистенциально-онтологических структур. Сейчас главной задачей технологического обеспечения является организация технологии манипулирования таким образом, чтобы она не сковывала жестко границы человеческого опыта. «Поэтому конституирование телесного опыта должно стать частью проективного пространства воображения» [1]. Отсюда следует вывод о том, что граница между реальностью и воображением может быть размыта в силу того, что телесность и ситуативность могут в виртуальности изменяться и проектироваться. Даже такая, казалось бы, неотъемлемая телесная детерминанта как пол.
В контексте этого постепенного исчезновения границы между реальным и воображаемым, важно помнить о приоритете реального опыта. Т. Огден, комментируя статью Д. Винникотта «Примитивное эмоциональное развитие», писал: «Во всех работах Винникотта подразумевается, что творчество не должно быть оценено выше всего остального. Творчество не только бесполезно — оно смертельно в буквальном смысле в случае младенца, когда оно оторвано от объективности, то есть, когда оно оторвано от принятия внешней реальности. Младенец, вечно галлюцинируя, о том, что ему нужно, умрет с голоду; читатель, потерявший связь с написанным, не сможет ничему научиться. Концепция Винникотта о самом раннем опыте принятия внешней реальности младенцем так же прекрасно передана, как и тонка по содержанию: «Одна вещь, которая следует за принятием внешней реальности, — это преимущество, которое можно извлечь из нее. Мы часто слышим о вполне реальных разочарованиях, вызванных внешней реальностью, но реже слышим об облегчении и удовлетворении, которые она дает. Настоящее молоко насыщает, в отличие от воображаемого, но дело не в этом. Дело в том, что в фантастике вещи работают по волшебству: нет тормозов для фантазии, а любовь и ненависть вызывают тревожные эффекты. Внешняя реальность имеет свои тормоза, ее можно изучать и познавать, и, по сути, фантазия терпима в полную силу только тогда, когда объективная реальность полностью признается. Субъективное имеет огромную ценность, но оно настолько тревожно и волшебно, что им можно наслаждаться только как параллелью к объективному» [14].
Возможно, именно потому, что воображаемое молоко не насыщает, литературный киберпанк очень быстро пришел к своему финалу, как жанр. Один из его создателей Брюс Стерлинг еще в середине 1980-х сказал: «Меня уже не слишком заботит будущность технопанка, оказавшегося на краю пропасти, да, он будет выхолощен, спародирован и превращен в набор догм — но разве не то же самое случалось прежде с другими направлениями в НФ?» [11]. Эти слова оказалсь пророческими: массовая культура оставила от стиля набор внешних признаков и некоторые визуальные идеи, которые оказались чрезвычайно востребованными и монотонно тиражируемыми в ее рамках. Практически неизменное воспроизведение этих визуальных идей на протяжении нескольких десятилетий и является одним из феноменов стиля, его постоянство свидетельствует о том, что он обслуживает некие бессознательные процессы, что можно подтвердить цитатой из рассказа «Сожжение Хром», принадлежащего перу другого основателя киберпанка Уильяма Гибсона: «Но улица любой вещи находит собственное применение» [2].
Центральной проблемой в кругу других тем, связанных с развитием киберкультуры представляется проблема телесности.
ПРИМИТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ СТИЛЯ КИБЕРПАНК
Примитивная изоляция заключается в устранении психотравмирующих обстоятельств путем ухода в иное психологическое (трансовое) состояние. При этом происходит бессознательный разрыв связи с актуальной травмирующей ситуацией. Изоляция ситуации от собственного «Я» особенно ярко проявляется у детей. Когда младенец перевозбужден или расстроен, он засыпает. Взрослый вариант того же самого явления можно наблюдать у людей, изолирующихся от межличностных контактов и замещающих напряжение, происходящее от взаимодействий с другими, стимуляцией, исходящей из внутреннего мира. Склонность к использованию психоактивных веществ для ухода от тревоги также может рассматриваться как вариант изоляции. Компьютерные игры, интернет-серфинг, просмотр телевизора, запойное чтение книг также являются проявлениями данной защиты [8, с. 170]. Достоинство изоляции как защитной стратегии состоит в том, что, позволяя психологическое бегство от реальности, она почти не требует ее искажения. Существует предположение, что чувствительность людей, прибегающих к изоляции, очень высока, и изоляция помогает им контролировать чрезмерный поток эмоций извне. Человека, привычно изолирующегося и исключающего другие пути реагирования на тревогу, аналитики описывают как шизоидного.
Поскольку внешняя среда в рамках стиля киберпанк описывается как опасная и неудовлетворяющая, то выход из этого мира в фантазийную реальность вполне закономерен. З. Фрейд в своей статье «Художник и фантазирование» писал: «Нужно сказать: никогда не фантазирует счастливый, а только неудовлетворенный. Неудовлетворенные желания — движущие силы мечтаний, а каждая фантазия по отдельности — это осуществление желания, исправление неудовлетворяющей действительности» [12, с. 130].
Выход из мира в виртуальную реальность (киберпространство) — центральная тема киберпанка, а создание феномена виртуальности — его главное «достижение».
Это мир, существующий внутри компьютерных сетей, где сознание без тела путешествует с помощью технических приспособлений или с помощью наркотиков. Фактически – это всемогущая фантазия. Мир киберпанка сам по себе — продукт фантазии, а виртуальная реальность в нем — фантазия в фантазии, как бы фантазия в квадрате. Это еще и осуществление мечты о слиянии с матерью во внутриутробном состоянии: неподвижное тело в удобном положении, соединенное с компьютерной сетью – «пуповиной» и удовольствие, которое это слияние обеспечивает, а также отсутствие каких-либо ограничений, накладываемых принципом реальности.
Контакт с внешним миром отсутствует, неоднократно повторяется образ закрытых, отгороженных от мира глаз, как нежелания видеть реальность, и наушников, как нежелания ее слышать. Персонажей несколько, но они не вступают во взаимодействие друг с другом, каждый из них существует отдельно в своем собственном мире, отгороженный от других образами, воплощенными с помощью технических устройств. Люди настолько не осознают себя, что теряют контроль над телесными функциями (см. рис. 1 – у девушки в центре композиции на губах не то слюна, не то пена). При этом изображенная «реальность» выглядит очень условно: фактически окружающей среды нет (небо, солнце, земля, растения, животные отсутствуют). Мы видим искусственную среду без естественного освещения, с неоновой цветовой гаммой. Даже мусор в ней выглядит ненастоящим.
Обе эти иллюстрации аналогичны по своему смыслу. Закрытые глаза и уши, подключение неких механических компьютерных конструкций напрямую к телу (смешение живого и неживого), нет контакта с внешним миром, вместо этого есть взаимодействие с неким условным значком, напоминающим компьютерную пиктограмму, наложенную на реальный мир. Здесь не реальность утверждает свой приоритет над фантазией, а фантазия утверждает свой приоритет над реальностью, как более важная и удовлетворяющая.
В этой иллюстрации воплотились сразу все перечисленные признаки изоляции: условное замкнутое безобъектное пространство, виртуальная реальность, закрытые техническими устройствами глаза и уши, подключение к компьютеру напрямую через «пуповину», наркотики (или стимуляторы) с автоматической подачей.
Компьютерная конструкция на голове персонажа дополнена радиальным свечением вокруг головы, подчеркивающим изолированность от окружающего мира. Окружность — фигура, замкнутая сама на себя, в ней нет глубины или перспективы. Собственно окружающего мира и нет, неоновые отблески падают в темную пустоту. Внешний мир не существует, «существует» лишь то, что персонаж видит в своем виртуальном мире. При этом художник взял такой ракурс, который позволяет компьютерному устройству, надетому на голову, перечеркнуть лицо как раз там, где находятся глаза, дополнительно отвергая возможность контакта персонажа со зрителем. Мертвый неоновый зеленый свет освещает лицо, делая его неживым (в реальности такое освещение можно увидеть только под водой, либо от газовых или неоновых ламп), придавая ему дополнительную нереальность.
Девушка фактически свернулась в позу эмбриона, она явно испытывает удовольствие, а трубка с наркотиком сияет «волшебным» неоновым светом, бросая его отблески на лицо, подчеркивая искусственную природу этого удовольствия. Характерная деталь — протез руки и явно намекающие на кибернетическую начинку доспехи, на которых видны кабели, штекеры и другие технического вида детали. Условное черное пространство, замкнутое, без перспективы и деталей — мир снова безобъектный и не выглядит сколько-нибудь интересным или вызывающим положительные эмоции местом.
Выход из мира в виртуальную реальность (киберпространство) — центральная тема киберпанка, а создание феномена виртуальности — его главное «достижение».
РАСЩЕПЛЕНИЕ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ СТИЛЯ КИБЕРПАНК
Собственно, идея расщепления содержится уже в самом определении киберпанка, как стиля. Оно известно, как критерий Дозуа, и звучит следующим образом: «High tech. Low life» («Высокие технологии, низкий уровень жизни») [15]. Под низким уровнем жизни может подразумеваться как материальная, так и моральная составляющая. Этот критерий, впервые появившийся в рецензии на роман У. Гибсона, составляет эстетическую и идейную основу стиля в целом.
Для произведений киберпанка характерно резкое социальное расслоение: корпорации злонамеренны, всесильны, богаты и грандиозны и держат все под контролем, персонажи — обитатели городского дна — бесправны, нищи, ничтожны и не контролируют ничего, даже собственные тела, эмоции и мысли. Суперхайтек, небоскребы, в которых размещены офисы корпораций, противостоят полуразрушенным городским трущобам (новое/разрушенное). Они доминируют над городским пейзажем и абсолютно несовместимы с размерами человеческой фигуры (огромное/ мелкое). Силы правопорядка — полиция или корпоративные службы безопасности, состоящие из киборгов или даже роботов, находятся на одном полюсе, обитатели трущоб, маргиналы всех мастей, люди (хотя и с киберимплантами) — на другом (сила/слабость и живое/неживое). Цветовая гамма и освещение в большинстве изображений этого стиля также резко контрастные, много черного и ярких неестественно-неоновых цветов (свет/ тьма, цветное/ черное). Эта контрастность и обилие теней создают атмосферу особенной тревожности и угрозы.
Как писала Н. Мак-Вильямс: «В повседневной жизни взрослого расщепление остается мощным и привлекательным средством осмысления сложных переживаний, особенно если они являются неясными или угрожающими. Политологи могут подтвердить, насколько импонирует любой неблагополучной группе идея поиска конкретного злодея, против которого ее «хорошие» члены должны бороться. Мифология нашей культуры наводнена манихейскими образами противостояния добра и зла, Бога и дьявола, демократии и коммунизма, ковбоев и индейцев, одинокого правдолюбца и ненавистной бюрократии и так далее. Столь же расщепленные образы можно найти в фольклоре и в организующих верованиях любого общества» [8, с. 170].
З. Фрейд полагал, что «одной из особенностей этого процесса [расщепления] является запрет на компромиссы между основными установками и одновременно сохранение их обеих без какого-либо диалектического опосредования» [7, с. 86].
Огромные небоскребы занимают практически все поле изображения, закрывая собой небо. Они нависают над крошечными человеческими фигурками на мосту в нижней части изображения. Контраст размеров отражен и в цветовом решении: освещенные неоновой рекламой и светом из окон здания имеют объем и цвет, а силуэт моста с людьми черный и плоский, решенный без какой-либо цветовой градации или попытки передачи объема. Композиционное построение продолжает идею, выраженную с помощью цвета: верхние грани небоскребов, поддержанные световыми лучами, образуют в перспективном сокращении «восходящую» диагональ — снизу вверх и слева направо (восхождение, развитие), а мост с людьми — «нисходящую», соскальзывающую вниз (падение, деградация). В итоге изображение демонстрирует целый набор расщепленных характеристик: огромное/ мелкое, цветное/ черное, свет/ тьма, объемное/ плоское, «восходящее»/ «нисходящее».
Интересно, что на этом изображении вполне узнаваема реальная локация: это Париж, место в районе порта Анри IV. Мы видим Эйфелеву башню, Июльскую колонну на площади Бастилии и часть застройки XIX века, а также порт Арсенал — городскую пристань для яхт и прогулочных судов. На некогда туристическом месте теперь трущобы в несколько этажей, центром которых стал старый корабельный корпус, превращенный в подобие каркаса, к которому беспорядочно пристроены навесы, сараи, вагончики и другие сооружения из различного строительного мусора. На переднем плане — «мастерская» по разборке (или починке?) роботов, один экземпляр в полуразобранном виде висит под навесом, там же сушится белье. Над всей хаотической конструкцией красуется неоновая вывеска с изображением мозга и надписью «The leaking brain» («Протекающий мозг»). Рядом на корабельном корпусе граффити: «Kind find brain» («Может, найдешь мозг»). Трущобная застройка тянется довольно далеко и только на самом горизонте видны гигантские, заслоняющие весь горизонт и уходящие за край изображения новые небоскребы, которые своими размерами совершенно нивелируют старые исторические достопримечательности. Дым, туман и испарения делают общую атмосферу зыбкой и ненадежной, в них скрадываются детали и теряется перспектива, а красные фонари на крыше навеса, напоминающие сигнальные файеры, вносят дополнительный вклад в общую тревожность. Передний план довольно контрастен и по цвету (черные тени и конструкции противостоят красным, неоновым, светло-желтым акцентам), и по освещенности (резкие перепады света и тени). Дальний план на фоне этого выглядит бесцветным, монотонным, плоским и подавляющим.
Вся композиция, подчеркивая безнадежность трущобного существования, сползает вниз слева направо по слабо наклонной «нисходящей» диагонали. Почти все линии переднего плана подчиняются этому направлению, за исключением лучей от красных фонарей, пробивающих туман, которые перечеркивают все своим светом. Хаотичность и «мусорность» переднего плана контрастирует с темно-серыми монолитными громадами хайтековых зданий, слегка разбавленных точками светящихся окон — это совершенно разные миры, отделенные друг от друга расстоянием и туманом. Мы снова можем зафиксировать использование дуальных пар: богатое/ бедное, новое/ старое, хаотичное/ упорядоченное, цветное/ монохромное, объемное/ плоское, свет/ тьма.
Любимое время киберпанка — ночь или поздний вечер, любимая погода — дождь, на этом изображении присутствует и то, и другое. Отчасти это связано с визуальными концептами для фильма «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, реж. Ридли Скотт, 1982 г.), авторства дизайнера и иллюстратора Сида Мида (Syd Mead), которые стали для визуального языка стиля каноном и источником вдохновения.
Перед нами типично киберпанковский городской квартал, контролируемый полицейским дроном. Композиция поделена на две части с помощью цветовой гаммы: слева, где в воздухе висит дрон, слегка подсвеченный неоновой рекламой, мы видим глубокую тень, которую разбивает прямоугольник фар припаркованной машины. Правая часть изображения залита малиновым неоновым светом, центральная фигура в ней — человек, обычный прохожий, от дрона его отделяет иллюзорная «стенка» из голографической рекламы. «Нисходящая» диагональ (пучок «сканирующих» лучей от дрона) пересекается и уравновешивается «восходящей» — козырьком портала здания, рядом с которым идет прохожий. Противопоставленная пара здесь власть/безвластие и живое/неживое, подчеркнутые композицией и цветовой гаммой.
Двое полицейских ведут арестованного человека с киберпротезами рук, закованных в наручники, от его фигуры веет безнадежностью и покорностью — он выглядит совершенно подавленным, согнулся, втянул голову в плечи и склонил голову. Фигуры полицейских-киборгов в «доспехах», напротив, выглядят очень массивными и крупными, они излучают уверенность, силу и полный контроль. Снова типичная для киберпанка цветовая гамма с преобладанием резких черных теней и ярких неоновых малиново-голубых бликов. Это изображение демонстрирует дуалистическое противостояние силы/ слабости.
Поскольку в приведенных выше изображениях наблюдаются различного рода дуалистические пары, можно сделать вывод, что мы имеем дело с согласованным типом расщепления объектов (по типу «плохой»/«хороший»). М. Кляйн [13, с. 454] полагала, что расщепление можно разделить по типам: расщепление Эго согласованное, расщепление объекта согласованное, фрагментация Эго, фрагментация объекта. Фрагментацию, в силу ее специфики, хотелось бы рассмотреть отдельно.
При этом выявленные пары делятся на визуальные приемы, способы изображения (свет/ тьма, цветное/ монохромное, «восходящее»/ «нисходящее» композиционное построение, объемное/ плоское) и на иллюстрации понятий (огромное/ мелкое, новое/ разрушенное, сильное/ слабое, богатое/ бедное, упорядоченное/ хаотичное).
ФРАГМЕНТАЦИЯ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ СТИЛЯ КИБЕРПАНК
Потребность бороться с тревогой, необходимая для выживания, заставляет Я младенца развивать фундаментальные механизмы защиты. Чтобы избежать разрушения, Я отчасти проецирует деструктивный импульс (проявление инстинкта смерти) вовне на первый объект — материнскую грудь. З. Фрейд считал, что оставшаяся часть деструктивного импульса связывается либидо внутри психического аппарата. Однако ни проекция вовне, ни удержание внутри психики не достигают своей цели: «тревога быть разрушенным изнутри остается активной <...> из-за недостатка связанности и под давлением этой угрозы Эго имеет тенденцию распадаться на кусочки <...> результатом расщепления является рассеивание деструктивного импульса, который считается источником опасности» [6, с. 76].
Впервые фрагментацию, связанную с расщеплением объектов, описывала М. Кляйн. Она полагала, что в случае работы этой защиты происходит не отчетливое разделение объекта на хороший и плохой, а множественное его расщепление, приводящее к расщеплению Я. Такой процесс на ранней стадии развития младенца является временным и краткосрочным. Однако, если младенец, пребывая в неинтегрированном состоянии не находит подходящий контейнирующий объект, способный привлечь и удержать его внимание и тем самым способствовать собиранию частей его личности вместе, то слишком долгое и частое нахождение в состоянии дезинтеграции может искажать Я младенца и даже рассматриваться как симптом шизофрении. «У взрослых пациентов состояния дезинтеграции и шизофренической диссоциации представляются регрессией к этим инфантильным состояниям дезинтеграции» [6, с. 82-83].
Отражением механизма и функции фрагментации может служить часть изображений в стиле киберпанк. Все они имеют одинаковое композиционное построение — фигура или голова человека/ киборга находится в некотором условном пространстве. Это — не реальный мир, в нем нет окружающей среды: неба, земли, солнца, растений или животных. Это — пустое искусственное место, один из смыслов которого — обозначить, что все происходит во внутрипсихическом пространстве.
В представленных выше изображениях фигура персонажа как бы парит в невесомости и подключена кабелями к какому-то неизвестному «терминалу», находящемуся вне поля нашего зрения. Можно констатировать, что мы видим регресс к внутриутробному состоянию младенца, находящегося в матке, связанного пуповиной с матерью, которая находится «вовне». На всех изображениях человеческие тела содержат внутри себя инвазивные металлические и электронные части, которые можно считать выражением разрушительного деструктивного импульса, вызванного тревогой. З. Фрейд описывал инстинкт смерти как наличие в живом организме стремления к восстановлению первичного (неживого, неорганического) состояния. Поскольку деструктивный импульс — проявление инстинкта смерти, то его отображением могут служить именно неживые материалы — металл, электроника. Разрушение тела здесь является отражением процесса фрагментации хрупкого слабо интегрированного Я в попытке рассеять деструктивный импульс, снять тревогу и, таким образом, удержать Я от аннигиляции.
Главной функцией всемогущего контроля является защита Я от беспомощности и деструктивных импульсов, исходящих изнутри и угрожающих его разрушить. М. Кляйн полагала, что всемогущество защищает Я от переживаний отдельности, зависимости и зависти, понимаемой, как деструктивный импульс, имеющий целью разрушить хороший объект.
ПРОЕКТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ СТИЛЯ КИБЕРПАНК
Концепция проективной идентификации занимает важное место в психоанализе. Впервые этот термин начала использовать М. Кляйн для описания защитных механизмов, действующих в рамках параноидно-шизоидной позиции. Далеко не все психоаналитики проводят ясное различие между проекцией и проективной идентификацией, тем не менее, согласно точке зрения последователей посткляйнианской школы, такое различие существует. К более глубоким аспектам проекции, которые по своим проявлениям можно было бы отнести к проективной идентификации, обращался еще З. Фрейд, когда описывал проработку травматических переживаний детьми с помощью игры.
Проективная идентификация имеет большое значение в силу того, что Эго и его объекты создаются из интроецированных различных (смешанных в различной степени и в разной степени интегрированных) частей самости и окружающего мира. Объекты внешнего мира построены отчасти из спроецированного материала бессознательных фантазий, отчасти из действительных характеристик объектов настоящего и прошлого. Это означает, что и Эго, и его объекты очень подвижны и меняются в течение времени, в соответствии с контекстом жизненных ситуаций и необходимости адаптации к ним (на работе человек может идентифицироваться с начальником, дома — с собственными родителями), что требует от аналитика постоянного внимания к внутренним и внешним объектным отношениям.
М. Кляйн определяет проективную идентификацию, как «прообраз агрессивных объектных отношений в виде анальной атаки на объект, посредством насильственного внедрения в него частей Эго. Цель такого внедрения — овладение содержимым объекта или установление контроля над ним» [13, с. 213]. В дальнейшем в эту концепцию Кляйн добавила действие зависти, которая в защитном механизме проективной идентификации представляет собой насильственное проникновение в другого с целью разрушения его лучших качеств. Существует набор типов фантазий, относящихся к проективной идентификации как к защитному механизму, позволяющему самости избавиться от нежелательных частей; они описаны Хиншелвудом [13, с. 221-222]: всемогущее вторжение, ведущее к слиянию или спутанности с объектом; фантазия о пассивной жизни внутри объекта (паразитизм), вера в единство переживаний с объектом (симбиоз); исторжение напряжения для тех, кто был травмирован в детстве посредством насильственных вторжений. Кроме того, проективная идентификация может использоваться для того, чтобы достичь объекта, который воспринимается как отчужденный, служить инверсии детско-родительских отношений, идентифицироваться с похожими качествами объекта в нарциссических целях.
Аналитики – посткляйнианцы развили эту концепцию и значительно продвинулись в понимании механизма действия защиты. В частности, Т. Огден дает ей такое определение: «Проективная идентификация — это понятие, отражающее то, каким образом чувства, соответствующие бессознательным фантазиям, в одном человеке (проецирующем) проявляются и обрабатываются в другом человеке (объекте проекции), то есть один человек использует другого для того, чтобы переживать и контейнировать какую-либо свою часть. У проецирующего изначально есть бессознательное желание избавиться от нежелательной или угрожающей части себя (включая внутренние объекты) и поместить ее в другого с целью всемогущего контроля. Спроецированная часть себя ощущается как частично потерянная и теперь принадлежащая другому человеку. Вместе с этой бессознательной проективной фантазией имеет место межличностное взаимодействие, посредством которого объект проекции вынуждается думать, чувствовать и вести себя в соответствии с исторгнутыми [проецирующим] чувствами и селф- или объект-репрезентациями, воплощенными в проективной фантазии. Другими словами, объект проекции вынуждается к идентификации с особым, отвергнутым аспектом проецирующего» [9, с. 11-12]. В случае, если объект проекции в состоянии справиться с помещенными в него чувствами, проецирующий может реинтернализовать аспекты, помещенные в объект проекции и преобразованные им. Если объект проекции не способен жить с помещенными в него чувствами и защищается от них различными способами (отрицанием, проекцией, с помощью действий, снижающих напряжение и т. д.), то проецирующий получает очередное подтверждение опасности и невыносимости своих фантазий. Интроецирование таких измененных чувств из такого патологического объекта проекции развивает и укрепляет существующую у проецирующего патологию. Важным моментом в понимании концепции проективной идентификации является то, что она неосуществима без взаимодействия между проецирующим и объектом проекции.
Персонаж, стоящий на мосту, смотрит на гигантскую голограмму девушки, которая показывает на него пальцем в ответ. Неоновый свет от голографического изображения практически полностью скрывает от зрителя небоскребы на дальнем плане и край моста, делая городское пространство условным и фантазийным, лишая его реальной глубины. Неживая голограмма — цветная (снова неоновая гамма), объемная, со сложной светотеневой моделировкой. В отличие от нее, живой человек на мосту выглядит крошечным, плоским, черным и ничтожным. Взгляд человека и жест девушки-голограммы связывают проецирующего и объект проекции и обозначают ту эмоциональную связь со спроецированным материалом, которая характерна для проективной идентификации. Благодаря помещению частей Я в другого, оно истощается: «определенные аспекты самости располагаются вне ее; вслед за этим появляется истощение и ослабление ощущения самости и идентичности, вплоть до деперсонализации» [13, с. 213]. Поэтому, в результате массированной проекции, фигура проецирующего выглядит настолько мелкой, незначительной и плоской, а объект проекции — грандиозным.
Аналогичная композиция с гигантской голограммой, которая, скорее всего, является визуализацией искусственного интеллекта. Напротив голограммы, спиной к зрителю размещена фигура проецирующего персонажа. В этом изображении мы видим ту же схему — гигантский, цветной, хорошо структурированный объект проекции и мелкий, плоский и слабо проработанный проецирующий. Роль связи между объектами играют здесь всевозможные «кабели» и линии, а также направления взглядов персонажа и голограммы. Пространство выглядит еще более условным, чем в изображении 14, это — некий, отрезанный от реального мира бункер, в котором большую часть пространства занимает изображение женского лица с горящими глазами, наполненными псевдожизнью.
Условное пространство, состоящее из нагромождения прямоугольных призм, имитирующих урбанистический пейзаж с небоскребами. Небо и облака на нем выглядят такими же искусственными, как и здания. Они освещены яркими неоновыми источниками света: розовыми и зелено-голубыми. Резкое освещение контрастирует с глухими черными тенями. Центральную часть композиции занимает висящая в воздухе гигантская конструкция, состоящая из нескольких уровней, сформированных в подобие октаэдра. Его силуэт выделяется острыми углами, гранями и светящимися полосами, в разные стороны отходит паутина кабелей, выходящих за пределы изображения. На мосту, проложенному по направлению к октаэдру, спиной к зрителю стоит человек, напротив которого на другом краю моста под октаэдром — робот-андроид, развернутый к человеку фронтально и почти сливающийся с парящей конструкцией. Принцип мелкой фигуры проецирующего и богато проработанной, цветной и огромной фигуры объекта проекции реализован и в этом изображении, аналогично двум изображениям, описанным выше. В качестве связи, осуществляющей контроль спроецированных частей Я, здесь используется взгляд персонажа и мост, направление которого подчеркнуто розовым пунктиром подсветки по краям.
Мост, являющийся важной частью композиции в изображениях 15 и 17, как конструкция, позволяющая перейти из одного места в другое, служит отличной метафорой незавершенного процесса работы защиты, которая позволяет психическому аппарату «перейти» из одного состояния в другое.
Проективная идентификация действует нередко в конгломерате с другими защитами, чаще всего с расщеплением, всемогущим контролем и отрицанием.
ВСЕМОГУЩИЙ КОНТРОЛЬ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ СТИЛЯ КИБЕРПАНК
Новорожденный ощущает мир и собственное Я как единое целое, точнее не разделяет окружающий мир и Я, в этот период преобладает первичный процесс мышления, когда внешние события воспринимаются как внутренние. Если младенцу холодно, мать понимает это и согревает его, младенец, не воспринимающий мать, как внешний объект, переживает тепло как вызванное им самим магическим образом, посредством своего желания. Это переживание довербальное и не формулируется логически, оно остается на уровне первичного опыта. Младенческий опыт всемогущества является критически важным в дальнейшем для развития самооценки и проходит через несколько стадий: инфантильная стадия первичного всемогущества или грандиозности, вторичное или производное всемогущество, когда всемогущими воспринимаются родители или другие заботящиеся о младенце люди, затем, при нормальном процессе развития, наступает отказ от всемогущества и принятие того факта, что всемогуществом не обладает никто из живущих. Расставание со всемогуществом становится возможным благодаря переживанию беспомощности, которое становится переносимым при интроекции внешних контейнирующих объектов и идентификации с ними.
«Ранние стадии младенчества характеризуются всемогущими мыслями, чувствами и фантазиями. <...> значимость всемогущества связана со страхами перед всемогущей деструктивностью и с тем, что определенные виды фантазийной деятельности, особенно входящие в примитивные защитные механизмы (вбирание, выталкивание, аннигиляция), оказывают глубокое и закрепляющее влияние на развитие Эго и на его характерные объектные отношения» [13, с. 283]. Н. Мак-Вильямс отметила, что взрослых людей, в психике которых преобладает этот вид защиты, следует рассматривать, как психопатических. Вся их личность организуется вокруг удовольствия от ощущения возможности использовать свое всемогущество, в то время как все этические и практические соображения отступают на второй план. «Для людей, в чьих личностях доминирует всемогущий контроль, главной заботой и источником удовольствия является победа над ближним любой ценой. Такие люди часто встречаются в отраслях, которые требуют хитрости, тяги к возбуждению или опасности, готовности подчинять нужды других главной задаче — сделать свое влияние ощутимым» [8, с. 159-160]. М. Кляйн называла всемогущий контроль «триумфом»: «Я хочу подчеркнуть значимость триумфа, тесно связанного с презрением и всемогуществом» [цит. по 13, с. 355] Она пишет, что садистическое удовлетворение от преодоления и унижения объекта, совладения с ним, триумфа над ним, может столь прочно войти в акт репарации, что объекты, которые нужно восстановить в процессе репарации снова превратятся в преследователей [там же]. На основании этого высказывания мы можем сделать вывод об эмоциональных оттенках, сопутствующих действию этой защиты.
Главной функцией всемогущего контроля является защита Я от беспомощности и деструктивных импульсов, исходящих изнутри и угрожающих его разрушить. М. Кляйн полагала, что всемогущество защищает Я от переживаний отдельности, зависимости и зависти, понимаемой, как деструктивный импульс, имеющий целью разрушить хороший объект.
В метафорическом смысле обладать властью над чем-то означает держать это что-то в руках. Расхожая идиома («возьми себя в руки» или «держи себя в руках») свидетельствует как раз об этом: человеку предлагают овладеть своими эмоциями, символически обозначив этот контроль как держание в руках. Другая идиома «держать кого-то на коротком поводке» имеет смысл власти и контроля, осуществляемого над кем-то другим. Здесь также уместно вспомнить о таких символах власти, как скипетр и держава, которые держал в руках монарх во время официальных приемов. Связь между могуществом, властью и держанием чего-либо в руках вполне очевидна. Поэтому неудивительно, что изображения, отражающие этот механизм защиты, объединяет именно этот жест: все персонажи держат в руках условный элемент, позволяющий им контролировать что-то во внешнем мире.
Это изображение демонстрирует нам хакера, мы можем увидеть результаты хакерского взлома — авиакатастрофу и какую-то инфраструктурную проблему, которую создал персонаж, сидящий перед мониторами в некотором убежище или бункере. Он явно наслаждается ситуацией: об этом говорит и расслабленная поза (развалившись в кресле), и закинутые на стол ноги, что отражает высокомерно-презрительное отношение к происходящему. Манипулирование интерфейсом происходит с помощью пальцев, с надетым на них электронным девайсом, аналогом современной мыши или стилуса.
Пространство, в которое помещена героиня этого сюжета гораздо более условное, чем на предыдущем изображении. В нем нет никаких деталей, кроме фигуры и окружающего ее свечения. Двумя руками, в которые внедрены киберпротезы, девушка удерживает некую голограмму, которой, очевидно, управляет. Замкнутость подчеркнута мотивом окружности, который многократно повторяется: свечение за головой, перед фигурой в горизонтальной плоскости, светящиеся детали киберпротезов, собственно, сама голограмма управления помещена в окружность. Все это создает ощущение закрытости и самодостаточности персонажа. Всемогущий контроль сопровождается, в силу специфики самого этого защитного механизма, магическим мышлением. Изображения процессов функционирования сложной компьютерной техники или сетей (особенно фантазийных, как в киберпанке) зачастую оказываются похожими на изображения колдовских или магических манипуляций и практик, что мы и видим в описываемом изображении: темная фигура, загадочные знаки, светящиеся глаза.
Перед нами киборг, в котором от живого человека осталась только голова, а все тело представляет собой механизм с высокой степенью структурированности деталей. Если на изображении 18 персонаж выглядит вполне живым, то здесь мы видим полную противоположность — мёртвость в прямом и переносном смысле, подчеркнутую цветовой гаммой (холодные серо-стальные тона и черные тени). Только внизу конструкции слегка подсвечены сполохами теплого света, вся энергия и живость как бы «утекли» вниз. Героиня помещена в условное пространство, наполненное техническими деталями, пронизанное кабелями и освещенное голограммами. Поза персонажа, сидящего на своем кибертроне с видом победителя, исполнена презрения и триумфа (в кляйнианском понимании). Это подчеркнуто ракурсом: мы видим фигуру немного снизу. В ее руках подобие скипетра (или условного копья), явно означающего некий символ силы и власти, то, чем осуществляется контроль. Общая победительность положения персонажа подчеркнута и композиционными средствами: диагонали, обрамляющие фигуру, составленные из нагромождения технических и электронных деталей на переднем плане, имеют восходящую направленность слева направо и снизу вверх.
Необходимо также отметить, что работа этой защиты связана с уменьшением энергии и жизненности в персонажах и их окружении: чем ярче выражена работа защиты, чем более победительным и подчинившим себе внешнее окружение выглядит персонаж, тем менее реален окружающий его мир и менее живым выглядит он сам: меньше живого тела, меньше ярких цветов, менее реалистично изображено окружение.
На основании анализа представленных иллюстраций возможно установить с помощью каких образов функции и механизмы защит первого порядка, которые находят отражение в изображениях стиля киберпанк:
1. ПРИМИТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Функция: защита от напряжения и разочарования в реальном мире.
Механизм: отграничение от стимуляций внешнего мира.
Образы: сенсорная депривация, обособление от социальных связей, использование химических/ наркотических веществ, выход из реального мира в виртуальную реальность, безобъектная внешняя среда (нет неба, солнца, растений, животных), отсутствие глубины и перспективы пространства, потеря контроля над функциями тела, подключение компьютеров к живому телу, внимание персонажей полностью поглощено происходящим в Сети, а не в реальности.
2. РАСЩЕПЛЕНИЕ
Функция: защита от тревоги, вызванной амбивалентностью.
Механизм: резкое разделение репрезентаций на «хорошие» и «плохие» и удержание их в таком разделенном виде.
Образы: различные резкие контрасты без переходов — богатый/ бедный, сильный/ слабый, новый/ разрушенный, гигантский/ мелкий, хаотичный/ упорядоченный, цветной/ черный, свет/ тьма.
3. ФРАГМЕНТАЦИЯ
Функция: защита Я от аннигиляции деструктивным импульсом как проявление инстинкта смерти.
Механизм: фрагментация Я для высвобождения этого импульса.
Образы: неживые детали из металла и электроники, внедренные в живое тело, разрушение тела изнутри на фрагменты, зависание тела в невесомости, в условном внешнем пространстве.
4. ПРОЕКТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Функция: защита от «плохих» частей Я.
Механизм: проецирование «плохих» частей Я в объект, переработка их объектом, интроецирование переработанного материала.
Образы: взгляды, жесты и детали композиции, связывающие персонажей, их расположение напротив друг друга во взаимодействии, контраст размеров, структурированности и содержательного наполнения проецирующего субъекта и объекта проекции.
5. ВСЕМОГУЩИЙ КОНТРОЛЬ
Функция: защита от беспомощности.
Механизм: восприятие внешних событий, как происходящих под управлением Я.
Образы: отдельность, отгороженность от внешнего мира (условное пространство, бункер) и господствующее положение в центре композиции, наличие атрибутов власти в руках, контроль над ситуацией в сюжете.
Предпринятую попытку анализа изображений можно рассматривать как один из возможных вариантов обобщения разнообразных теоретических взглядов на классификацию, механизмы и функции защит первого порядка, и их отражение в художественном творчестве, в частности, в визуальных образах.
БИБЛИОГРАФИЯ:
- Власенко О. Феноменология телесности в киберкультуре // Томский философский клуб [Электронный ресурс]. URL: http://tfk1.narod.ru/telo.htm
- Гибсон У. Сожжение Хром. / Пер. с англ. // Книгосайт [Электронный ресурс]. URL: http://knigosite.org/library/read/59358
- Добрицына И. А. От постмодернизма — к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки. — М.: «Прогресс-Традиция», 2004. — 416 с.
- Зезюлько А. В., Кузьмин С. П. Идея сверхчеловечности в контексте культуры // Таврический научный обозреватель, 2015. — №4, С. 35-41.
- Зезюлько А. В. «Киберпанк» как феномен духовной жизни // Научная мысль Кавказа, 2012.— №4, С. 144-147.
- Кляйн М. Заметки о некоторых шизоидных механизмах. Психоаналитические труды: в 7 т., Т. 5: «Эдипов комплекс в свете ранних тревог» и другие работы 1945-1952 годов / Пер. с англ. — Ижевск: ERGO, 2009. — С. 69-101.
- Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с фр. // Bookap.info [Электронный ресурс]. URL: https://bookap.info/psyanaliz/laplansh_slovar_po_psihoanalizu/
- Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе / Пер. с англ. — М.: Независимая фирма «Класс», 2015. — 592 с.
- Огден Т. Х. Проективная идентификация и терапевтическая техника. — Киев: Издательство Ростислава Бурлаки, 2020. — 260 с.
- Панишев А. Матрица киберпанка// Проект Киберкультуры [Электронный ресурс]. URL: http://t-c-p.narod.ru/matrix-cyberpunk.htm
- Суэйнвик М. Постмодернизм в фантастике. Руководство пользователя / Пер. с англ. // Книги онлайн [Электронный ресурс]. URL: https://www.mnogobook.ru/fantastika/nauchnaya_fantastika/54733.htm
- Фрейд З. Художник и фантазирование // Художник и фантазирование: сб. ст. / Пер. с нем. — М.: «Республика», 1995. — С. 129-134.
- Хиншелвуд Р. Словарь Кляйнианского Психоанализа / Пер. с англ. — М.: «Когито-Центр», 2007. — 566 с.
- Ogden Th. Reading Winnicott // Centre for Training in Psychotherapy [Электронный ресурс]. URL: https://ctp.net/PDFs/ogden.pdf
- Person L. Notes Toward a Postcyberpunk Manifesto // The cyberpunk project [Электронный ресурс]. URL: http://project.cyberpunk.ru/idb/notes_toward_a_postcyberpunk_manifesto.html