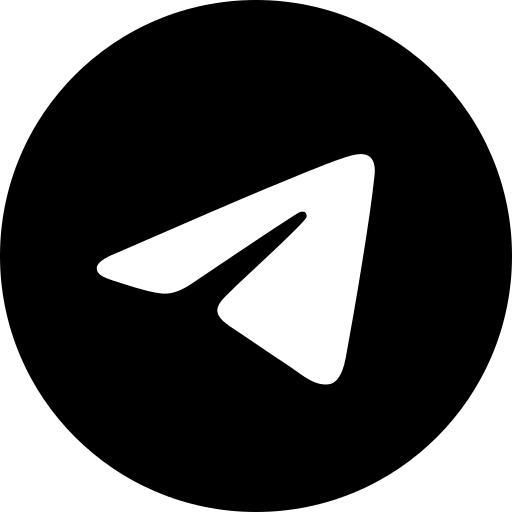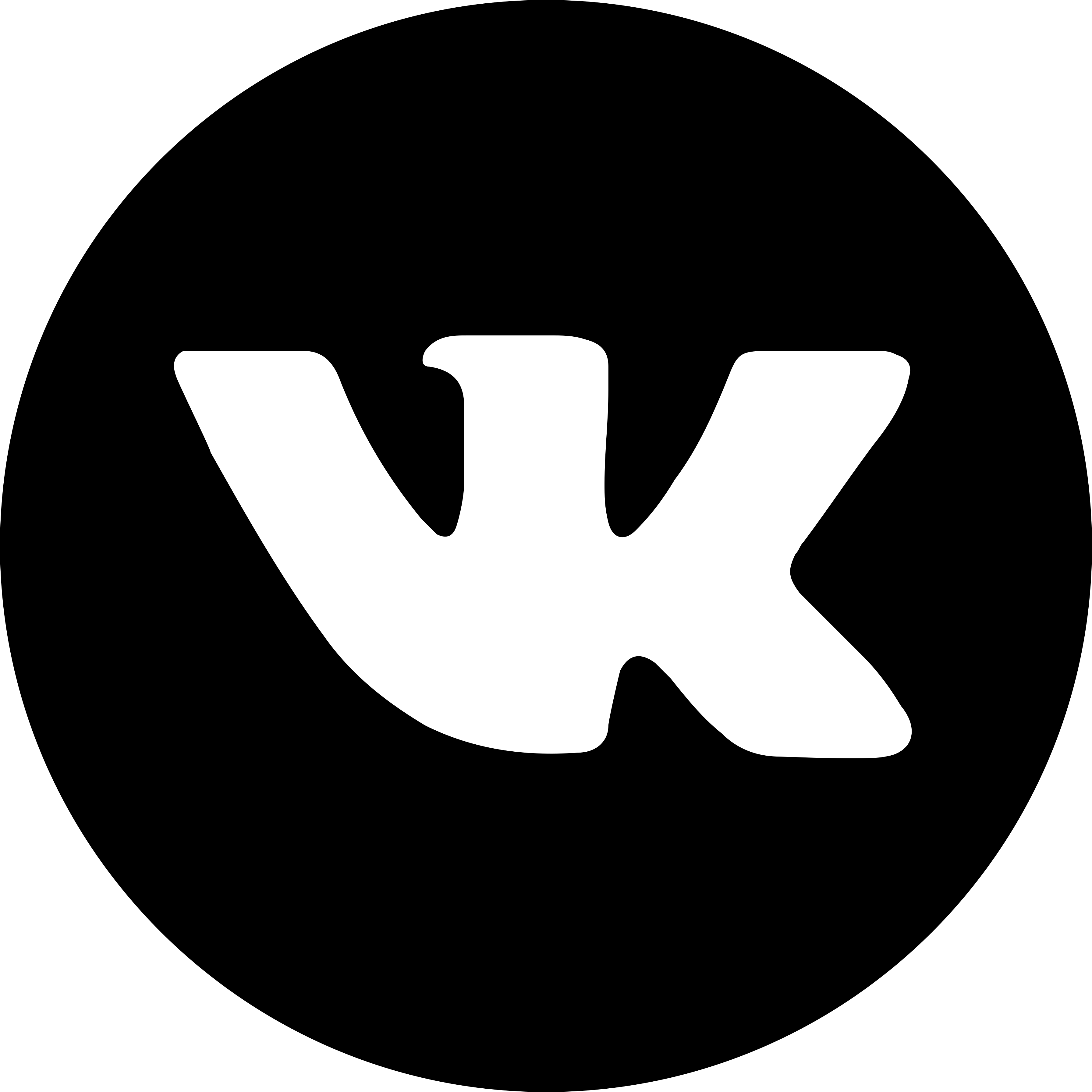- Кандидат филологических наук
- Магистр психологии
- Психоаналитический психотерапевт

- Кандидат филологических наук
- Магистр психологии
- Психоаналитический психотерапевт
Исследователи неоднократно подчеркивали близость многих персонажей Ф.М. Достоевского к пограничной психопатологии. Так, например, П. Ганнушкин, выдающийся психиатр и специалист в пограничных расстройствах психики считал, что в художественных произведениях можно найти примеры психических расстройств более яркие и репрезентативные, чем в учебниках по психиатрии. Поэтому в произведениях автора романа «Идиот» можно обнаружить и тех, кто постоянно находится на границе нормы и патологии и тех, кто «... переходит из состояния здоровья в состояние болезни или наоборот — лишь временно более долгий или короткий срок... оставаясь на этой границе» [1, с. 106].
Ф.М. Достоевский в своем творчестве не делает акцент на описании однозначно выраженных симптомов различных психопатологий, а обращает внимание как раз на те состояния, которые можно определить как пограничные.
Специфические черты личности своих героев он художественно синтезирует так, что они предстают перед читателем, как полноценные и полновесные персонажи, являющие собой многогранность и многоуровневость человеческой психики, ее проблем и коллизий. Его «полусумасшедшие» герои представляют промежуточные состояния психики, которые трудно уместить в прокрустово ложе однозначных психиатрических терминов. Позже понятие «полусумасшествие» появится и в психиатрии. Эту проблему хорошо понимал и П. Ганнушкин, который назвал такого рода пациентов «полунормальными», тем самым открывая дверь для психологического изучения данного явления. По его мнению, психический статус такого рода пациентов, подразумевает, что они могут назваться настоящими «метисами… с одинаковым основанием могущими считаться и за душевноздоровых, и за душевнобольных» [1, с. 99].
В произведениях автора романа «Идиот» можно обнаружить и тех, кто постоянно находится на границе нормы и патологии и тех, кто переходит из состояния здоровья в состояние болезни или наоборот — лишь временно более долгий или короткий срок оставаясь на этой границе.
Представляется, что в психоаналитической перспективе эту проблему освещает Дж. Стайнер в своей книге «Психические убежища». Как известно, опираясь на работы кляйнианских аналитиков [11, с. 406–413], Джон Стайнер разработал концепцию патологических организаций, «психических убежищ» [7]. В этой концепции он описал психические организации, которые позволяют укрыться от реальности. Он представляет пациентов, которые с трудом поддаются психоаналитическому лечению, т.к. для них невыносимо быть и на параноидно-шизоидной, и на депрессивной позиции. Поэтому они убегают из сферы реальных отношений в специфические психические убежища, в которых у них появляется ощущение защищенности, хотя, в то же время, их эмоциональные страдания полностью не прекращаются, зачастую сопровождаясь переживанием нарциссического и мазохистского удовольствия. В любом случае, в этих убежищах пациенты чувствуют себя намного безопаснее, чем вне их, и поэтому любые попытки помочь им их покинуть могут вызывать большую тревогу. Для того, чтобы оставаться в такого рода убежищах пациенты опираются на проективную идентификацию, искажение реальности, они проявляют покорность установленному защитной организацией порядку ради того, чтобы сохранить статус-кво и собственную безопасность.
«Протоэстетический» опыт можно представить, как начавшийся еще в утробе матери», и этот опыт продолжается далее, после рождения ребенка, предопределяя человеческую способность к восприятию красоты.
Им тяжело пережить «утрату» объектов, от которых они психически отделяются, а работа скорби дается им нелегко. Поэтому они создают специфические психические состояния (убежища), где они могли бы спрятаться от тревоги и боли.
Считается, что такого рода личности имеют три основных характеристики.
1. Они пребывают в психическом пространстве между, с одной стороны, параноидно-шизоидной позицией, защищаясь от переживания на ней деструкции; и, с другой стороны, депрессивной позицией, спасаясь от переживания вины и от работы горя.
2. Их развитие проходило в ситуации преобладающих инстинктов смерти и зависти. В то же время в их психике были созданы устойчивые объектные отношения, при том, что «плохие» части их самости все же доминируют над «хорошими».
3. Несмотря на кажущуюся устойчивость их личности и преодоления шизоидно-параноидной позиции, такой результат назван патологической организацией, несущей не только защитную функцию, но и предполагающей жесткое слияние с некоторыми видами объектных отношений, а также получение удовольствия патологическим, перверсным образом [11, с. 407].
Дж. Стайнер описывает эти патологические организации как специфическую совокупность защит, как многоуровневую и многогранную систему объектных отношений. С помощью такого рода чрезвычайно стойких защитных организаций пациент может избежать тревоги, которая возникает в результате соприкосновения с реальностью или другими людьми. Рассмотрим, как и насколько концепция Дж. Стайнера применима для прикладного психоаналитического исследования романа Ф.М. Достоевского «Идиот».
Как известно, в основной, предельно сжатой, сюжетной линии романа развивается повествование о князе Льве Мышкине, возвратившемся в Петербург после длительного лечения от тяжелого психического заболевания в Швейцарии. Он возвращается не до конца вылеченным: «Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «что же, вылечили?» – белокурый отвечал, что «нет, не вылечили» [2, с. 9]. В Петербурге у него возникают отношения с двумя женщинами – Аглаей и Настасьей Филипповной. При всей «влюбленности» князя, эти отношения сложно назвать полноценными, судя по всему, болезнь и ранее мешала ему построить отношения с женщинами: «Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю» [2, с. 17]. Отношения с Настасьей Филипповной становятся для князя роковыми: в результате ее убийства Рогожиным он теряет рассудок, становится полным «идиотом» и его возвращают обратно в Швейцарию.
Представляется, что эту логику повествования можно соотнести с логикой психической динамики, описанной в работе Дж. Стайнера «Психические убежища». В сущности, приезд Льва Мышкина в Петербург можно рассматривать, как возвращение его из одного «психического убежища» в реальность жизни, которая для него, еще не вполне здорового, становится по-своему невыносимой и из которой он бежит в другое «психическое убежище» отношения с Настасьей Филипповной. Катастрофические отношения с Настасьей Филипповной, заканчивающиеся ее смертью, возвращают князя в исходное «психическое убежище».
Дж. Стайнер описывает эти два вида убежищ, как свойственные параноидно-шизоидной позиции. Первое из них он относит к патологической фрагментации, второе – к нормальному расщеплению. При патологической фрагментации персекуторная тревога может стать настолько невыносимой, что появляется ощущение тотальной угрозы существованию индивида.
Красоты в романе две, и носителями этих красот становятся две женщины: Настасья Филипповна и Аглая.
В результате пациент может погрузиться в хаос и спутанность, деперсонализацию и дереализацию, состояния галлюцинации и страха. Так как в таком состоянии пациент может чувствовать свою психику расколотой и распадающейся на части, нужда хоть в каком-то порядке и структуре порождает необходимость создания защитных организаций, пусть даже с психотическими характеристиками. По Стайнеру, «чаще всего создается сложная бредовая система, устраняющая тревогу путем внесения произвольного и зачастую жестокого порядка в ранее хаотическое состояние» [7, с. 110].
В то же время, для здорового развития нормальное расщепление является нормой. Организация ребенком своего незрелого хаотического психического опыта выражается в расщеплении на плохое и хорошее. Когда такого рода расщепление происходит, то оно может выражаться в смене состояний идеализации и преследования. При нормальном психическом развитии ребенок становится способным признать, принять и выносить амбивалентность объекта, что все больше сдвигает его к депрессивной позиции.
И, если первый тип психического убежища, представленного как патологическая фрагментация, в романе остается практически «за кадром» (о нем мы узнаем из рассказов князя Мышкина о своем лечении в Швейцарии и из авторского описания его состояния после убийства Настасьи Филипповны), то тому, как проявляет себя психическое убежище второго типа, представленного как нормальное расщепление, посвящено основное повествование романа.
Красота для князя не только воплощена в образе женщины. Красота во всей ее полноте – это то, что он переживает за несколько мгновений до начала эпилептического припадка.
Как отмечает Дж. Стайнер, при нормальном расщеплении возможно движение к депрессивной позиции. Но с князем это не происходит. В романе мы можем отследить ряд патологических моментов, которые обусловили возврат главного героя к первому типу психического убежища психотической патологической организации.
Можно предположить, что исходным «патологическим изломом» в жизни Льва Мышкина была ранняя потеря родителей: «Остался князь после родителей еще малым ребенком» [2, с. 30]. И, если фигура отца князя в романе никак не представлена, то, мы предполагаем, что с фигурой матери все обстоит иначе – она манифестирует себя в способе его психопатологии. Не только его отношения с женщинами во многом предопределены образом матери, но и сама «падучая» так же манифестирует его отношения с архаичной материнской фигурой. Одним из ключевых аспектов формирования психопатологии князя Мышкина являлись его неразрешенные симбиотические отношения с матерью.
Эти отношения проявляются в ряде взаимосвязанных и переплетенных между собой аспектов художественной ткани романа: красота, болезнь и смерть, отношения с женщинами. Отдельное рассмотрение этих аспектов представляет собой несколько искусственную конструкцию, но в аналитических целях это необходимо.
КРАСОТА
Тема восприятия красоты и отношения к красоте затрагивает важнейшие элементы развития сюжета. Уже практически в самом начале романа происходит размежевание красоты. Красоты в романе две, и носителями этих красот становятся две женщины: Настасья Филипповна и Аглая. Князь Мышкин впервые видит портрет Настасьи Филипповны у генерала Епанчина и восхищается ее красотой: «Так это Настасья Филипповна? – промолвил он, внимательно и любопытно поглядев на портрет. – Удивительно хороша! – прибавил он тотчас же с жаром. На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина… Да, всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю, – ответил князь… Это необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо еще сильнее поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота!» [2, с. 33-34, 83].
Когда от князя требуют охарактеризовать Аглаю, он тоже восхищается ее красотой, которая иная, по сравнению с красотой Настасьи Филипповны: «О да, заметна; вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть.
– И только? А свойства? – настаивала генеральша.
– Красоту трудно судить; я еще не приготовился. Красота – загадка.
– Это значит, что вы Аглае загадали загадку, – сказала Аделаида, – разгадай-ка, Аглая. А хороша она, князь, хороша?
– Чрезвычайно! – с жаром ответил князь, с увлечением взглянув на Аглаю, – почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое!» [2, с. 81].
Князю приписывается утверждение о том, что «мир спасет красота» [2, с. 386]. Аглая видит в князе «рыцаря бедного», который посвятил себя служению «образу чистой красоты», даже если реальность «прекрасной дамы» ему не соответствовала он поверил ее
«чистой красоте» и готов был за нее копья ломать [2, с. 252].
Но красота для князя не только воплощена в образе женщины. Красота во всей ее полноте – это то, что он переживает за несколько мгновений до начала эпилептического припадка. Эта «минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и встревоженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни... В том же, что это действительно «красота и молитва», что это действительно «высший синтез жизни», в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить [2, с. 229].
Специфическое проявление эстетического конфликта: он отзывается на красоту, красота ему не чужда, красота его покоряет, но в то же время эта красота для него трагична, болезненна и разрушительна.
Представляется, что красота, которую переживает князь Мышкин при виде прекрасных женщин или перед началом эпилептического припадка является не только и не столько выражением его тонкой эстетически сформированной душевной организации, но его переживание красоты – причина и следствие «эстетического конфликта» (Д. Мельтцер).
Видимая, «поверхностная» красота матери порождает фантазии о внутреннем пространстве матери, которое представляется намного более прекрасным и захватывающим, чем ее внешняя красота. Эта «глубина внутреннего» недостижима для ребенка и вследствие этого у него развивается способность воспринимать и наслаждаться видимой красотой.
Как известно, Д. Мельтцер возводит переживание красоты к самым ранним этапам человеческой жизни. По его мнению, «протоэстетический опыт можно представить, как начавшийся еще в утробе матери», и этот опыт продолжается далее, после рождения ребенка, предопределяя человеческую способность к восприятию красоты [5, с. 53]. Этот процесс является постепенным и приобретает очертания, когда происходит постепенный разрыв симбиотических отношений и отделение ребенка от матери. Ребенок начинает видеть мать, как отдельного человека, ее образ становится для него все более очерченным и ясным, и, безусловно, единственно прекрасным. Представление о том, что мать захвачена ребенком полностью – и внешне, и внутренне, и физически, и психически постепенно уходит, как и уходит представление о том, что молоко матери никогда не закончится и ее грудь останется неистощимым источником наслаждения. После наступления «стадии зеркала» (Лакан) Я ребенка начинает осознавать свою отдельность и, благодаря отражению, свою телесность. Психический процесс такого рода продуцирует ощущение удовольствия и, в то же время, ощущение неполноценности, неразвитости тела ребенка, если его сравнить с телом взрослого человека.
Наряду с этим, в процессе сепарации ребенок не может не столкнуться с тем фактом, что мать – не всегда и не полностью принадлежит ему: она находится в парных отношениях с отцом, ее душевное состояние тоже крайне изменчиво и, более того, мать невозможно проконтролировать никакими интервенциями ребенка. Все эти процессы не отменяют восторг ребенка красотой матери. Более того, видимая, «поверхностная» красота матери порождает фантазии о внутреннем пространстве матери, которое представляется намного более прекрасным и захватывающим, чем ее внешняя красота. Эта «глубина внутреннего» недостижима для ребенка и вследствие этого у него развивается способность воспринимать и наслаждаться видимой красотой [4].
Так рождается эстетический конфликт, о котором Д. Мельтцер писал следующее: «Обычная прекрасная преданная мать представляет собой для своего обычного прекрасного ребенка чрезвычайно интересный сложный объект, как чувственный, так и инфра-чувственный. Ее внешняя красота, сконцентрированная, как это и должно быть, в ее груди и ее лице, выраженный в каждом случае сосками и глазами, окутывает его эмоциональным опытом чувственного качества, в результате которого, он может видеть эти объекты как «прекрасные»… Это эстетический конфликт, который наиболее точно можно сформулировать в терминах эстетического воздействия внешней стороны «прекрасной» матери, доступной для чувств и загадочной внутри, которая должна быть истолкована творческим воображением» [5, с. 59-60].
Кроме того, Д. Мельтцер считает, что эстетический конфликт, как и депрессивная позиция в развитии ребенка являются первичными, в то время как шизо-параноидная позиция – вторична. Она является результатом реакции ребенка «на ослепляющий ярким светом восход солнца» (красоту матери), на который ребенок реагирует «закрытием своих перцептивных отверстий» [5, с. 67]. В таком случае память о переживании красоты матери сопровождает даже тех пациентов, у которых сильно выражена их психопатология и которые, как может показаться, никогда не покидали шизо-параноидную позицию. Д. Мельцер считает, что «их коснулась красота, и они дико отшатнулись от нее, как они это делают снова и снова в ходе анализа» [5, с. 68]. Поэтому психопатология в своей первичной основе является бегством от боли эстетического конфликта, обозначающего невозможность и неспособность ребенка творчески преодолеть внешнюю красоту материнского тела и постичь ее внутреннее содержание.
Ф.М. Достоевский в образе князя Мышкина смог передать весь трагизм соприкосновения с красотой, восхищения красотой и в то же время невозможности подлинной близости, внутреннего единения с красотой, т.е. природу и сущность эстетического конфликта.
На этот процесс могут повлиять сепарация, физическая и/или эмоциональная депривация в результате заболевания, догенитальный или генитальный эдипальный конфликт, совращение и жестокость, смерть родителей или сиблингов. В результате формируется «избегание влияния красоты мира и страстной близости с другим человеком» [5, с. 68-69].
Исходя из этого, мы можем предположить, что князь Мышкин тоже был однажды захвачен красотой своей матери и тоже был затронут депрессивной позицией, однако крайне неблагоприятные условия его последующей жизни сформировали в нем специфическое проявление эстетического конфликта: он отзывается на красоту, красота ему не чужда, красота его покоряет, но в то же время эта красота для него трагична, болезненна и разрушительна. С прекрасными женщинами он строит отношения, скорее, основанные на жалости, а не на желании «страстной близости» и, в итоге, с каждой из них его отношения обрываются по-своему трагически. Красота, которую он переживает за несколько мгновений до эпилептического припадка, в итоге, ведет не к созиданию, а к разрушению его психического здоровья. Она также не ведет его к близости. В этом случае, к близости с самим собой.
Таким образом, может быть «красота и спасет мир», но красота для Льва Мышкина не становится спасительной. На пути к возвращению на депрессивную позицию, на которой он был в начале своей жизни, будучи покоренным красотой матери, становятся целый ряд негативных, препятствующих такому движению, факторов: ранняя смерть родителей и тяжелое заболевание. Находясь в Петербурге и будучи не совсем здоровым, он находится в психическом убежище в состоянии нормального расщепления на шизо-параноидной позиции. Здесь он идеализирует прекрасных женщин, не замечая патологических сторон их личности и тем самым не принимая их амбивалентности.
Писатель через симптомы эпилепсии выражал смертоносную атаку на фигуру своего интернализованного отца.
Красота сыграла с князем «злую шутку» она ослепила его настолько, что он не смог целостно принять личность этих женщин (в первую очередь, Настасьи Филипповны), выйти на депрессивную позицию и тем самым достичь с ними полноценной близости.
Д. Мельтцер описывает два класса людей, которые, в силу своих особенностей, в принципе, не способны достичь подлинной близости с окружающими людьми: «первый из них включает в себя умственно и социально больных, отрезанных от близости тяжестью своих бредовых идей, либо живущих в состояниях проективной идентификации или тотальной недостаточности развития личности, или с такой настойчивостью в инфантильных способностях связи, что близость взрослого рода не может развиться. Вторым классом являются художники, чье болезненное восприятие бесчеловечности, ежедневно действующей в отношении них, сопоставляемое ими с виденьем красоты мира, находящейся под воздействием примитивных социальных процессов, запрещает им растрачивать свои жизненные силы на адаптацию к этому миру [5, с. 51]. Как кажется, Ф.М. Достоевский в своей личности в той или иной мере совмещал мироощущение этих двух групп людей и в образе князя Мышкина смог передать весь трагизм соприкосновения с красотой, восхищения красотой и в то же время невозможности подлинной близости, внутреннего единения с красотой, т.е. природу и сущность эстетического конфликта.
БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ
З. Фрейд описывал эпилепсию Ф.М. Достоевского, как символические «припадки смерти» и считал, что писатель через симптомы эпилепсии выражал смертоносную атаку на фигуру своего интернализованного отца. В то же время, с точки зрения Брегера, проблема эдипа и отношения с отцом не являются основополагающими. По его мнению, ключевым моментом в этиологии болезни писателя являются отношения с матерью, т.е. доэдипальные отношения, когда Я ребенка только начинает дифференцироваться из симбиотических отношений с матерью.
Поэтому, когда Ф.М. Достоевский описывает приступы эпилепсии и состояния ее сопровождающие, как, с одной стороны, состояния «абсолютного счастья», «мгновений и проблесков высшего бытия», «высшей степени гармонии», «неслыханного чувства полноты, меры, примирения», «восторженного слияния с самим высшим синтезом жизни» и, с другой, состояния «уныния», «душевного мрака», «отупения» и «идиотизма». Все эти состояния охватывают специфические особенности раннего опыта, являющегося результатом эмоционального слияния младенца с архаическим образом матери, которая воспринимается им, как обладающая всей полнотой любви и всей полнотой ненависти, носительницей жизни и угрожающей смертью.
И. Кадыров пишет, что, по мысли Брегера, в болезни, художественном творчестве и в реальной жизни Ф.М. Достоевский проявлял, отыгрывал и сублимировал, хранящуюся в глубинах его бессознательного фантазию о совершенном симбиотическом слиянии с матерью и, в то же время, эта фантазия включала в себя как убийство матери, символически выражающееся в эпилептических припадках, так и «смертную казнь» себя, искупляющую такого рода убийство [3, с. 129-130].
Вообще, эпилепсия князя Мышкина соединяется в романе с темой смерти. В сущности, описывая сцены казни, переживания приговоренных в последние минуты перед казнью, когда смерть должна наступить «наверное», во многом отражают состояние человека, болеющего «падучей» за несколько мгновений до эпилептического припадка. В связи с этим, можно предположить, что князь рассматривал описываемых им приговоренных к смерти, как своих двойников, рассказывая о которых он проигрывал и отыгрывал свое «предсмертное» состояние перед началом припадка.
Можно предположить, что князь рассматривал описываемых им приговоренных к смерти, как своих двойников, рассказывая о которых он проигрывал и отыгрывал свое «предсмертное» состояние перед началом припадка.
Следует отметить, что проблема двойничества представлена в психоанализе многогранно и многомерно. Проблему двойничества описал еще З. Фрейд в своей работе «Жуткое» [10]. Он писал, что двойник представляет собой уходящее своими корнями в бессознательное другое Я, которое может проявлять себя, как друг или как враг. Являясь, по сути, бессознательным, это «другое Я» может относиться к сознательному Я комплиментарно или находиться с ним в отношениях противоположности.
О. Ранк дополнил психоаналитическую разработку двойничества и писал о том, что двойник может представлять целостное Я самости или же его части [6]. Кроме того, в роли двойника могут выступать люди, которые представлены в психической вселенной индивида, как «эквиваленты» его Я. Можно предположить, что в романе «Идиот» люди, обреченные на казнь представляют собой такого рода «эквиваленты» Я князя Мышкина. С точки зрения О. Ранка, в основе двойничества лежат ранние симбиотические отношения ребенка с матерью, к которой он нарциссически привязан. Такая нарциссическая привязанность может служить в качестве защиты от смерти и в то же время выполнять функцию ее репрезентации.
Используя идею двойничества в своих повествованиях о казнях, князь Мышкин помещает своих двойников в те ситуации, которые катастрофически непереносимы для него самого, его двойники проходят через то, что князю пройти представляется невозможным.
В болезни, художественном творчестве и в реальной жизни Ф.М. Достоевский проявлял, отыгрывал и сублимировал, хранящуюся в глубинах его бессознательного, фантазию о совершенном симбиотическом слиянии с матерью и, в то же время, эта фантазия включала в себя как убийство матери, символически выражающееся в эпилептических припадках, так и «смертную казнь» себя, искупляющую такого рода убийство.
Можно предположить, что при таком подходе может проявляться достаточно устойчивая связь между невыносимым страхом смерти и глубинным, патологическим нарциссизмом, который выражается в ощущении невозможности аннигиляции себя.
Через повествования о казнях князь «проигрывает» варианты неумолимого приближения умирания, которое он символически переживает в момент эпилептического припадка, для того, чтобы сделать предельно насыщенной жизнь перед тем мгновением, когда сознание окончательно померкнет. Эта насыщенность несет в себе, помимо прочего, полноту страдания: «А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно… и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете… Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное?» [2, с. 26].
Но эта полнота страдания, скорее всего, окрашивается мазохистским наслаждением. Если обратиться к словам З. Фрейда, написанным о Ф.М. Достоевском, то в них можно обнаружить объяснительную модель отношения князя Мышкина к описаниям казни (отрубание головы – символ кастрации). Мазохистское Я князя отождествляется с материнским Я, женственно-пассивным, которое испытывает необходимость в наказании и жестоком обращении со стороны садистского отцовского Сверх-Я. Неотвратимость казни (кастрации), символизирующей неумолимость судьбы являются также поздней проекцией отцовской фигуры [9, с. 289]. . В итоге невыносимые страдания перед казнью, кроме всего прочего, несут в себе для героев повествования князя Мышкина (с которыми он отождествляется) и мазохистское наслаждение, связанное с фигурой матери.
В основе двойничества лежат ранние симбиотические отношения ребенка с матерью, к которой он нарциссически привязан. Такая нарциссическая привязанность может служить в качестве защиты от смерти и в то же время выполнять функцию ее репрезентации.
Фаустовское «остановись мгновенье» призвано остановить нарциссическую неприкосновенность личности и максимально продлить и возвысить ее величие и ценность перед окончательным срывом в бездну небытия. Поэтому подтверждение идеи О. Ранка о том, что нарциссическая личность (или грандиозное Я) не в состоянии вынести факт конечности жизни, исчезновения этого Я и, следовательно, неминуемой смерти, можно обнаружить и в описании отношения к болезни и смерти у князя Мышкина. Другие герои Ф.М. Достоевского избирают самоубийство и сознательный поиск смерти для того, чтобы освободиться от страха неконтролируемого и неизбежного приближения смерти, угрожающей навеки уничтожить их нарциссическое Я (Кириллов). Таким образом, согласно О. Ранку, двойничество обусловлено жесточайшим страхом перед неумолимой смертью, толкающим человека к созданию своего дубликата, благодаря которому он может получить защиту от неотвратимой утраты самого себя [3, 6].
Вероятно, ранняя смерть родителей (матери), с которой, судя по всему у Льва Мышкина была ярко выраженная симбиотическая связь, стала причиной того, что князь, выйдя из психотического состояния на шизо-параноидную стадию, стал расщеплять опыт смерти на крайне насыщенную эмоциями и, следовательно, полнотой жизни фазу последних мгновений перед смертью (эпилептическим припадком) – идеализацию, и саму смерть (или срыв в «падучую») – параноидная тенденция. Судя по всему, Я князя, потерявшее опору в симбиотических отношениях с матерью, смогло совладать с тяжелейшим ударом по нарциссизму уходом в забвение (идиотизм) или расщеплением на шизо-параноидной стадии. В результате стало возможным хоть какое-то сохранение собранных в одно целое «осколков» разбитого утратой поддерживающих нарциссизм князя симбиотических отношений с матерью.
ОТНОШЕНИЯ С ЖЕНЩИНАМИ
Другим способом сохранения себя для князя Мышкина являются его отношения с женщинами: Аглаей и Настасьей Филипповной. Он любит и одну, и другую. Евгений Павлович после разговора с князем недоумевает: «И как это любить двух? Двумя разными любовями какими-нибудь? Это интересно… бедный идиот!» [2, с. 586]. Можно предположить, что эти две любви укладываются в классическую схему любви к Мадонне и любви к Блуднице [8]. И также можно предположить, что отношения с Аглаей (Мадонной) для князя Мышкина представляют собой выход из шизо-параноидной на депрессивную позицию, а отношения с Настасьей Филипповной (Блудницей) обрекают его на срыв из психического убежища нормального расщепления на шизо-параноидной позиции в патологическую фрагментацию. Очевидно, что персекуторная тревога после смерти Настасьи Филипповны становится настолько невыносимой и тотальная угроза существованию князя становится настолько сильной, что единственным способом избежать ее становится срыв в забвение, даруемое безумием (идиотизм).
Фаустовское «остановись мгновенье» призвано остановить нарциссическую неприкосновенность личности и максимально продлить и возвысить ее величие и ценность перед окончательным срывом в бездну небытия.
Таким образом мы можем утверждать, что определяющими, ключевыми и роковыми отношениями для князя Мышкина становятся отношения с Настасьей Филипповной. С ней его связывают проективные идентификации, которые в этих отношениях становятся определяющими: «Я давеча ваш портрет увидал, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали меня… Я… я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна…» [2, с. 174].
Дж. Стайнер пишет о том, что одним из результатов проективной идентификации является ситуация, когда субъект не в состоянии относиться к объекту как к отдельной от него личности, у которой есть своя жизнь и принадлежащие только ей свойства. Он относится к ней так, как относился бы к себе самому. Конечно, он не обязательно должен «поглощать» своими проективными идентификациями весь объект, он, к примеру, может «исключить» те стороны объекта, которые по каким-то причинам не соответствуют его проекции, а может посредством установления контроля над объектом принуждать его исполнять ожидаемую от него роль. Как известно, такой тип нарциссических отношений был описан еще З. Фрейдом в его работе о Леонардо. По мысли З. Фрейда, Леонардо так строил отношения со своими подмастерьями, что они представляли его самого как мальчика. Наряду с этим, идентифицируясь с материнской фигурой, он относился к мальчикам так, как хотел бы, чтобы мать относилась к нему самому [7, с. 76].
Согласно О. Ранку, двойничество обусловлено жесточайшим страхом перед неумолимой смертью, толкающим человека к созданию своего дубликата, благодаря которому он может получить защиту от неотвратимой утраты самого себя.
Так и князь «исключает» негативные стороны Настасьи Филипповны и обращает внимание только на те, которые соответствуют его проекции, в результате которых он относится к Настасье Филипповне с той жалостью и состраданием, с которыми он хотел бы, чтобы относились к нему, одновременно идентифицируясь и с материнской фигурой, дарующей заботу и сострадание, и с фигурой Настасьи Филипповны, получающей заботу и сострадание: «В этом лице… страдания много… – проговорил князь, как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая… За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами… Чрез десять минут князь сидел подле Настасьи Филипповны, не отрываясь смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими руками, как малое дитя. Он хохотал на ее хохот и готов был плакать на ее слезы. Он ничего не говорил, но пристально вслушивался в ее порывистый, восторженный и бессвязный лепет, вряд ли понимал что-нибудь, но тихо улыбался, и чуть только ему казалось, что она начинала опять тосковать или плакать, упрекать или жаловаться, тотчас же начинал ее опять гладить по головке и нежно водить руками по ее щекам, утешая и уговаривая ее как ребенка». [2, с. 84, 174, 575].
Посредством проективной идентификации князь Мышкин отрицает свою отдельность от Настасьи Филипповны. Осознание отдельности привело бы к ощущению зависимости от объекта и к повышению тревоги, которая в случае с князем была бы непереносимой. Осознание и признание отдельности могло бы привести к переходу на депрессивную позицию, к переживанию зависимости от Настасьи Филипповны и к созреванию зрелых любовных отношений. Однако процесс такого рода был бы чреват пробуждением несвойственной князю агрессии, увеличением тревоги, неизбежными фрустрациями и переживанием их последствий.
Персекуторная тревога после смерти Настасьи Филипповны становится настолько невыносимой и тотальная угроза существованию князя становится настолько сильной, что единственным способом избежать ее становится срыв в забвение, даруемое безумием (идиотизм).
Кроме того, такого рода зависимость могла бы пробудить также несвойственную князю зависть, которая была бы следствием углубления восприятия «хорошести» объекта. Благодаря же всемогущим нарциссическим объектным отношениям агрессия, обусловленная неизбежной фрустрацией в отношениях, и зависть были устранены. Всемогущее «обладание» Настасьей Филипповной (как обладание материнской грудью младенцем) избавляло князя от фрустрации и/или зависти. Похоже зависть в отношениях была для Льва Мышкина невозможна и невыносима, т.к. она обнажила бы таящиеся на уровне бессознательного страхи, связанные с переживанием фрустрации и зависимости.
Отношения с Настасьей Филипповной становятся для князя психическим убежищем, основная функция которого – предотвратить контакт с болью и тревогой. В результате пребывания в психическом убежище человек чувствует себя ни абсолютно внутри, ни абсолютно вне своих объектов, благодаря чему психическое убежище становится своеобразной пограничной областью. Хотя пребывание в этой области ограждает их от тревоги, они платят за это тем, что испытывают серьезные проблемы связанные с идентичностью, «так что не чувствуют себя ни полностью здравыми, ни совершенно безумными, ни целиком мужчинами, ни вполне женщинами, ни гомосексуалами, ни гетеросексуалами, ни детьми, ни взрослыми, ни маленькими, ни большими, ни любящими, ни ненавидящими, но существующими на границе между этими состояниями» [2, с. 90]. В результате мы видим князя, который после Швейцарии достиг некоторой личностной стабильности, но его эмоциональная жизнь, несмотря на всю глубину переживаний, является достаточно ограниченной и не совсем полноценна. Его трудно отнести к невротикам, но он и не является психотиком. Психическое убежище держит его в пограничном состоянии.
Осознание отдельности привело бы к ощущению зависимости от объекта и к повышению тревоги, которая в случае с князем была бы непереносимой.
Князь интернализует объектные отношения с Настасьей Филипповной и они во многом определяют характер его психического убежища. В отношениях с ней он использует проективную идентификацию, по большей части, необратимым образом: он отщепляет части самости и проецирует их в объект (Настасью Филипповну), где они располагаются на постоянной основе и становятся недоступными для его самости. Так образуется нарциссический характер отношений, который характеризует патологическую организацию личности. Этот процесс приводит к тому, что отщепленные элементы Я князя Мышкина становятся для него недоступными и, в результате, само его Я ослабевает и впадает в зависимость от патологической организации.
Проблема заключается в том, что, судя по всему, князь не способен вернуть себе те части самости, которые были утрачены в результате проективной идентификации, т.к. это означало бы утрату всемогущего контроля над объектом (Настасьей Филипповной). Такая утрата контроля была бы возможна, если бы Лев Мышкин был способен к процессу скорби. Но, похоже, скорбь подменяется жалостью, которая еще больше связывает его с Настасьей Филипповной: «он начинал беспокоиться о ней, если только час не видел ее» [2, с. 578].
Психоз дает шанс для физического выживания князя, но его психическое убежище, созданное отношениями с Настасьей Филипповной, терпит крах, и он возвращается на стадию психотической патологической фрагментации.
Связь с Настасьей Филипповной посредством проективной идентификации становится настолько сильной, что вопрос о необходимости отпустить объект даже не возникает, т.к. от этой связи зависит психическое выживание князя. Разлука для него неотличима от смерти (т.к. Настасья Филипповна контейнирует слишком много самости, отщепленной и в нее спроецированной) и поэтому, когда Настасья Филипповна погибает, погибает и здоровая, спроецированная в нее, часть самости князя.
Князь Мышкин впадает в состояние психоза, которое, как кажется, является единственно для него возможным выходом. Психоз дает шанс для физического выживания князя, но его психическое убежище, созданное отношениями с Настасьей Филипповной, терпит крах, и он возвращается на стадию психотической патологической фрагментации. Тот вероятный крах, который пережил князь Мышкин в результате смерти матери, разорвавшей его с ней симбиотические отношения и, похоже, повергший его в тяжелое психическое заболевание, повторился снова, только уже в результате основанных на проективной идентификации отношениях с женщиной, закончившихся так же, как и в случае с матерью, ее смертью. Психическое убежище, сформированное благодаря отношениям с Настасьей Филипповной и создававшее на время ощущения защищенности, благополучия и эмоциональной насыщенности, не предоставило возможностей для дальнейшего психического развития князя и, следовательно, для его полного выздоровления. В результате физическая смерть Настасьи Филипповны, послужила толчком для психической смерти князя Льва Николаевича Мышкина.
Таким образом, разработанная Джоном Стайнером концепция патологических организаций может стать концептуальной герменевтической рамкой для описания психопатологии не только реальных пациентов, но и для описания психических проблем героев художественных произведений. В этой концепции он описал психические организации, которые предоставляют укрытие от реальности. Для того, чтобы оставаться в такого рода убежищах пациенты опираются на проективную идентификацию, искажение тестирования реальности, они проявляют покорность установленному защитной организацией порядку ради того, чтобы сохранить статус-кво и собственную безопасность. Психоаналитическое исследование романа психопатологии главного героя романа Ф.М. Достоевского «Идиот» позволяет утверждать, что представленная Дж. Стайнером концепция психических убежищ может быть удобной и рабочей герменевтической моделью для размышления о литературных персонажах, а также и о природе их психических проблем.
ЛИТЕРАТУРА
- Ганнушкин П. Б. Избранные труды. М., 1964.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в семи томах. Т.3. – М.: «Лексика», 1994. – 624 с.
- Кадыров И.М. «Двойник» Ф. М. Достоевского: попытка психоаналитической интерпретации. // Психоанализ и искусство / Сост. Е. А. Спиркина. М.: Когито-Центр, 2011. – С.117-137.
- Ковалец А.Е. Влечение к красоте. Психоаналитический опыт понимания эстетического // Журнал практического и прикладного психоанализа. – 2019. №1: https://psyjournal.ru/articles/vlechenie-k-krasote-psihoanaliticheskiy-opyt-ponimaniya esteticheskogo
- Мельтцер Д. Психическая боль и душевное удовольствие (Понимание красоты). – М.: Экзистенциальная лаборатория, 2018. – 298 с.
- Ранк О. Двойник. – СПб.: Скифия-принт, 2017. – 196 с.
- Стайнер Дж. Психические убежища. Патологические организации у психотических, невротических и пограничных пациентов. – М.: «Когито-Центр», 2010. – 239 с.
- Уэлдон Э. Мать. Мадонна. Блудница. Идеализация и обесценивание материнства. – М.: «Перо», 2016. – 204 с.
- Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Фрейд З. Художник и фантазирование. – М.: Республика, 1995 – С.285-296.
- Фрейд З. Жуткое // Фрейд З. Собрание сочинений в 26 т. Т.18. Об искусстве и художниках. Т.19. Об искусстве и художниках 2 // СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2021. – С.343-380.
- Хиншелвуд Р. Словарь кляйнианского психоанализа. – М.: Когито-Центр, 2007. – 566 с.