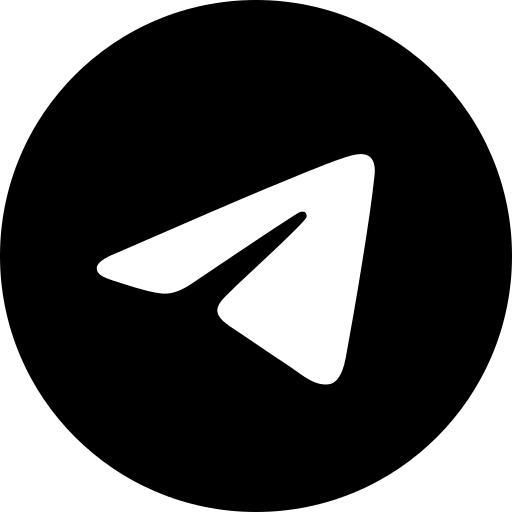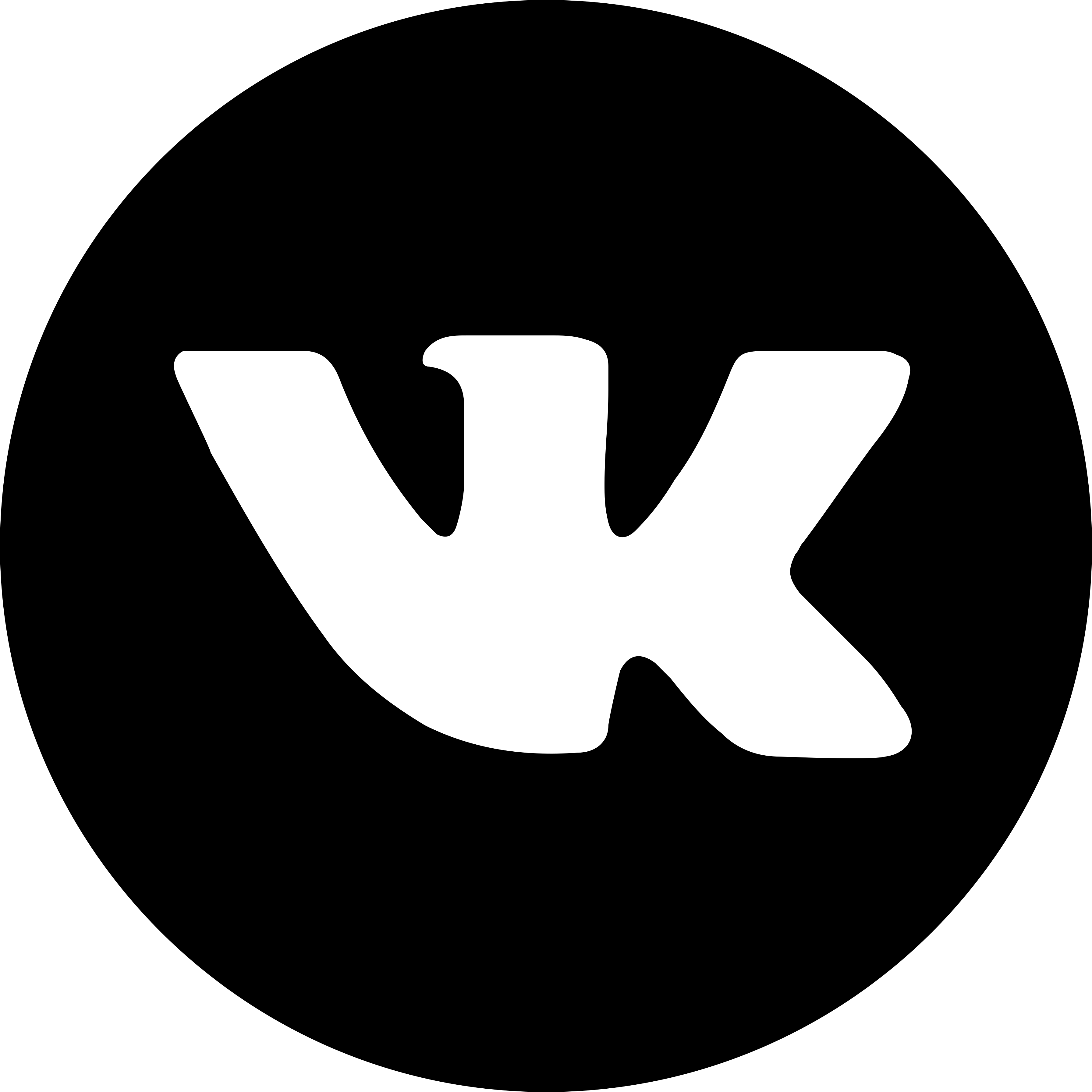- Психолог, психоаналитик
- Доктор философии по психологии (Ph.D.)
- Приглашённый профессор психоаналитической теории и терапии в Высшей школе прикладной и профессиональной психологии Ратгерского университета
- Бывший президент отделения психоанализа в Американской психологической ассоциации
- Внештатный редактор журнала «The Psychoanalytic Review» и член редакционной коллегии журнала «Psychoanalytic Psychology»
- Автор четырёх книг, три из которых посвящены психодиагностике и одна практике психотерапии. На русском языке изданы три: «Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе», «Психоаналитическая психотерапия: Руководство практика» и «Формулирование психоаналитического случая».
- МакВильямс формирует особую парадигму восприятия профессии терапевта

- Психолог, психоаналитик
- Доктор философии по психологии (Ph.D.)
- Приглашённый профессор психоаналитической теории и терапии в Высшей школе прикладной и профессиональной психологии Ратгерского университета
- Бывший президент отделения психоанализа в Американской психологической ассоциации
- Внештатный редактор журнала «The Psychoanalytic Review» и член редакционной коллегии журнала «Psychoanalytic Psychology»
- Автор четырёх книг, три из которых посвящены психодиагностике и одна практике психотерапии. На русском языке изданы три: «Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе», «Психоаналитическая психотерапия: Руководство практика» и «Формулирование психоаналитического случая».
- МакВильямс формирует особую парадигму восприятия профессии терапевта
Статья была опубликована online first 31 октября 2016 года и представляет собой немного измененную версию выступления на Весеннем собрании 39 Секции «Психоанализ» Американской психологической ассоциации 10 апреля 2016 года. Сохранен стиль статьи в форме беседы с коллегами.
Переведено и опубликовано с разрешения Американской психологической ассоциации. Все права защищены.
В письменной версии выступления перед аудиторией 39 Секции Американской психологической ассоциации автор размышляет о проблемах ограниченности и смертности. Она рассматривает вопросы, касающиеся очевидного нежелания многих аналитиков заниматься проблемами старения, утраты функции и смерти на любом уровне: клиническом, теоретическом, личном, — и предлагает поговорить о том, как пожилые терапевты могут подготовить своих пациентов к своим неизбежным старению и смерти.
Некоторое объяснение общепринятому избеганию обсуждения этих вопросов автор находит в имплицитных аспектах западной, особенно американской, культурной идеологии, изобилующей локковскими предположениями о том, что ресурсы безграничны, все проблемы решаемы, а личные права более важны, чем общественные потребности и обязательства. Этим взглядам она противопоставляет господствующие психоаналитические убеждения и клинические знания и представляет на рассмотрение коллег некоторые выводы.
Автор затрагивает положительные аспекты ограниченности, в том числе потенциал для развития творчества и генеративности. Наконец, автор поднимает проблему старения членов 39 Секции и других психоаналитических групп, рассуждает о достижениях нынешнего поколения аналитиков и вызовах, с которыми столкнется следующее поколение специалистов в этой сфере.
Когда меня спросили, о чем я хочу поговорить в своем выступлении, я подумала о теме смертности. Мне было почти 70 лет, и у меня обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Крошечное пятнышко на моей щеке оказалось карциномой Меркеля, редкой и агрессивной формой рака кожи с неутешительным прогнозом. К счастью, болезнь была выявлена достаточно рано, и мой прогноз был отличным при условии, что мне немедленно сделают операцию и проведут длительный курс ежедневных сеансов лучевой терапии. Мне повезло. У меня был хороший дерматолог, мой жених (теперь уже муж), который настоял на том, чтобы я сразу пошла к врачу, и гистолог, который знал достаточно, чтобы распознать необычную опухоль Меркеля. На моем лице были заметны последствия операции, а затем и лучевой терапии, поэтому проблемы со здоровьем повлияли на мою работу, готова я была к этому или нет. Как и 22 года назад, когда у меня диагностировали агрессивный (но, в конечном счете, излечимый) рак груди, я была потрясена этим внезапным появлением старухи с косой. У меня практически не было факторов риска, и я надеялась, что мой здоровый образ жизни меня защитит.
Мои пациенты тоже были расстроены. Некоторые из них, одного со мной возраста, и те, с кем я работала много лет, никогда не задумывались о моем неизбежном старении и, в конечном счете, о моей смерти. Так же, как и о своей собственной. По крайней мере, не задумывались всерьез. И, хотя сейчас я оптимистично настроена на выздоровление, я уже вижу приближение своих похорон, и мои пациенты тоже. Размышления о смерти в 70 лет совсем не такие, как в 3 года, когда я впервые с ней столкнулась и встретила это новое знание истерикой, или в 9 лет, когда умерла моя мама, или в 35 лет (возраст, который Джон Апдайк назвал нашей «серединой»), или когда я достигла того возраста, в котором умерли мои родители, или когда я потеряла своего мужа, скончавшегося в возрасте 40 лет. И, несомненно, размышления о смерти уже другие в 80 или 95 лет.
Однако, к выбору этой темы меня подтолкнул другой опыт. Пару лет назад одна из студенток моей супервизорской группы обратилась к своим сокурсникам 20–30-ти с небольшим лет, попросив совета у тех, кто имеет опыт работы с пациентами старших возрастных групп. Что нового они узнали о психотерапии с пожилыми людьми? Несколько студентов присоединились к дискуссии. Я стала замечать, что, разговаривая между собой, они украдкой поглядывают на меня, и спросила, не стесняются ли они говорить о пожилых людях в присутствии пожилого преподавателя.
С некоторым смущением они кивнули. И тогда я начала рассказывать, как о положительных, так и об отрицательных сторонах жизни после 65 лет. Этот возраст Эриксон (1950) определил как начало старости. Кстати, в более поздние годы он не раз заявлял, что, если бы писал свою теорию развития тогда, то разделил бы годы после 65 лет и не объединял бы психологию 65-летних с психологией 95-летних. Позже, в 1997 году, Джоан Эриксон (Joan Erikson) добавила материал к их книге «Завершение жизненного цикла», в которой рассматривается стадия «пожилого возраста» и концепция «геротрансценденции» (Erikson & Erikson, 1997). А в 2001 году Марсия Спира (Marcia Spira) и Барбара Бергер (Barbara Berger), в очередной раз корректируя исторически сложившуюся мужскую направленность психоаналитических теорий и выступая против культурно обусловленного представления о том, что женщинам после менопаузы место «на свалке развития», постулировали «предпоследнюю» фазу у женщин в возрасте от 55 до 70 лет, в которой преобладает генеративность[1] (Spira & Berger, 2001).
Спустя несколько недель после нашей дискуссии в супервизорской группе мои студенты сказали, что для них было открытием узнать о положительных аспектах старости: о возросшем принятии себя и принятии других, о том чувстве легкости, когда гормоны уже не играют в человеке как раньше, о том, что тщеславие и соперничество отошли на второй план, о счастье иметь внуков, об удовольствии проводить время с ровесниками и делиться общими воспоминаниями, о безмятежности и чувстве меры. Я рассказала им о Хедде Болгар (Hedda Bolgar), которая в возрасте 104 лет сказала, что теперь ей уже не нужно никому ничего доказывать, она чувствует себя спокойно и уверенно и терпимее относится к другим людям. Современная западная культура дала моим студентам довольно скудное представление о чувстве удовлетворения, возникающем в старшем возрасте. Никто никогда не говорил с ними о позитивной стороне старения.
И, наконец, еще одно событие последнего десятилетия, которое в то время показалось мне довольно забавным, побудило меня поразмышлять и сегодня поговорить о смерти и ограниченности в целом. В 2007 году, сразу после того как Стэнли Гринспен (Stanley Greenspan) опубликовал первое издание «Руководства по психодинамической диагностике» (РПД; PDM Task Force, 2006), руководители комитетов проекта обратились к читателям с просьбой поделиться своими замечаниями и предложениями о том, что для них оказалось полезным в РПД, что они считают неправильным или чего в нем не хватает. Одним из первых откликнулся психиатр-геронтолог из Лос-Анджелеса Дэниел Плоткин (Daniel Plotkin), который задал вопрос: «Вы позиционируете данный труд как биопсихосоциальный, учитывающий особенности развития, и охватываете вопросы младенчества, детства и взрослой жизни. А что насчет пожилых людей?». Авторы РПД переглянулись в растерянности, как бы говоря: «Пожилые? Что за пожилые?!» Довольно предсказуемая реакция на такое упущение, учитывая, как мало внимания любая таксономическая система уделяет людям в преклонном возрасте. Но в случае с авторами РПД такая реакция может вызвать вполне справедливое удивление, потому что средний возраст людей, участвовавших в подготовке руководства, составлял, по моим подсчетам, около 75 лет, а некоторым было под 90. Получается, что представителей нашей возрастной категории просто проигнорировали.
Периодически мы все слышим от Американской психологической ассоциации, что нам следует иметь профессиональное завещание. «Очень хорошая идея», — каждый раз думаю я, перенося ее из одного списка дел в другой.
СМЕРТНОСТЬ, ОГРАНИЧЕННОСТЬ, ПСИХОАНАЛИЗ
В моем возрасте, когда я слышу водопад вдалеке, скоротечность времени по-новому определяет все мои планы и ожидания. Зная о некоторых событиях из моего детства, вы можете понять, что проблема смертности и ее последствий давно тревожит меня. Сейчас я знаю множество коллег-психоаналитиков моего возраста, которые, независимо от их прошлого, тоже об этом думают, возможно, по-новому, как и я. Мне кажется, что, как профессионалы в области психоанализа, мы должны, как это традиционно делают аналитики, вместе говорить на темы, которые трудно удержать в сознании и которые не принято обсуждать в нашем обществе. О старости, смерти и других непреложных реалиях нужно говорить с коллегами всех возрастов.
Я все чаще замечаю, что мы уже это делаем. На недавней конференции в Нью-Йорке Мартин Стивен Фроммер (Martin Stephen Frommer), Малкольм Славин (Malcolm Slavin), София Ричман (Sophia Richman) и Дэвид Ньюман (David Newman) обсуждали вопросы смертности и психоанализа. На этом Весеннем собрании (Spring Meeting) несмотря на то, что его тематика, казалось бы, предполагает вопросы, скорее, связанные с влечением к жизни, чем влечением к смерти, неоднократно обращалось внимание на отношения между ограничениями и творчеством. Так, например, был мастер-класс Юдит Юнг (Yudit Jung) о перверсии как умирании для того, чтобы жить, а также обсуждения, посвященные старению в психоанализе, завершению, травме и творчеству, сексу в пожилом возрасте, потере и жизнестойкости, болезни терапевта.
Однако, я не вижу доказательств того, что психоаналитики спокойнее других относятся к смерти, как это видно в случае с РПД. Тем не менее, это неотъемлемая часть нашего профессионального Эго-идеала: разобраться в последствиях любого тревожащего нас опыта. Несколько десятилетий назад Эрнест Беккер (Ernest Becker, 1973) порицал Фрейда за то, что тот не стал углубляться в изучение последствий страха перестать существовать, реальности, которую Фрейд, вероятно справедливо, считал непостижимой для огромной бессознательной части психики. Я помню, как Эрик Эриксон однажды прокомментировал то, что он назвал «дрожь Эго» (ego chill) — состояние, которое испытывает человек, когда он пытается отбросить все другие мысли и думает о прекращении существования. Попробуйте, это действительно пугающе.
В начале 1980-х годов, задолго до появления большого количества психоаналитической литературы о тяжелой болезни терапевтов (например, Pizer, 1997), моя коллега Пегги ван Раалте (Peggy van Raalte, 1984) написала докторскую диссертацию о том, что происходит с людьми, чьи терапевты умирают во время лечения. Один из наиболее впечатляющих результатов ее исследования показал, что в случаях длительной и, в конечном счете, неизлечимой болезни терапевта те клиенты, которые заметили изменения, происходящие с их терапевтом, и на вопросы которых терапевт отвечал честно, как правило, легче справлялись с утратой. Те же клиенты, чьи терапевты пытались продолжать работать как обычно, не обсуждая с пациентами вопросы своего здоровья, как правило, впоследствии испытывали трудности с доверием к любому другому терапевту после смерти своего специалиста. Кроме того, они чаще испытывали вину, связанную с потерей («Если бы только я был более интересным...»). В случае внезапной смерти терапевта некоторые шли к другому специалисту, которого затем обесценивали и покидали (возможно, из-за идентификации с агрессором, покидая этого терапевта подобно тому, как их покинул прежний терапевт); большинство из них более или менее сошлись с другим специалистом, который помог им справиться с горем. В целом, лучше всего справились с утратой те пациенты, к кому обратился «посредник» и предложил консультацию по поводу их глубокой скорби.
Такие выводы имеют важное клиническое значение. В ходе психоанализа устанавливается сильная привязанность. Нам нужна эта сила в терапевтических отношениях, чтобы помочь людям освободиться от глубокого, обусловленного множеством причин страдания. Но сила привязанности, необходимая для излечения, может нанести и неменьший вред. Учитывая, что наша смерть может травмировать тех, кто от нас зависит, я особенно заинтересовалась беседами ван Раалте с несколькими очень пожилыми аналитиками, которых она спрашивала об их отношении к собственной смерти. Большинство из них подчеркнули, что им еще рано об этом беспокоиться; они здоровы, хорошо питаются, занимаются физкультурой...
Наш вид имеет долгую историю попыток найти то, чем мы качественно отличаемся от других животных, — похоже, для присущего нам нарциссизма важно во всеуслышание заявить о собственной уникальности.
Таким образом, совершенно очевидно, что все мы, как аналитики, так и неспециалисты, разбираемся с вопросом о смерти, преимущественно диссоциируясь от любого Я-состояния, в котором ее можно увидеть. Ещё одно доказательство такого избегания, которое я замечаю у себя и у многих коллег, признающихся в схожем сопротивлении, — это нежелание позаботиться о будущем наших пациентов на случай, если мы умрем или будем не в состоянии работать с ними. Периодически мы все слышим от Американской психологической ассоциации, что нам следует иметь профессиональное завещание. «Очень хорошая идея», — каждый раз думаю я, перенося ее из одного списка дел в другой.
Еще один исторически сложившийся способ справиться на интеллектуальном уровне с осознанием своей неизбежной кончины заключается в утверждении, что наше знание о том, что мы в конце концов умрем, происходит от проницательности, присущей исключительно человеку и одновременно являющейся его проклятием. Одним из примеров такого предположения является высказывание, которое любит приводить мой друг Джордж Этвуд (George Atwood), приписывая его Паскалю: «Человек — самое прекрасное существо во вселенной, потому что он — единственный, кто осознает, что его жалкое существование в конце концов прекратится».
Подобные взгляды тешат наше тщеславное убеждение в человеческой исключительности. Наш вид имеет долгую историю попыток найти то, чем мы качественно отличаемся от других животных, — похоже, для присущего нам нарциссизма важно во всеуслышание заявить о собственной уникальности. Было предложено множество качественных отличий: использование орудий труда, использование языка, использование символов, способность к абстрактному мышлению, теория разума — все они, в конечном счете, оказались отличиями степени, а не качества, по крайней мере, от некоторых других существ. Только ли у нас есть понятие о смерти, о неизбежности того, что мы все умрем? Я в этом сомневаюсь. Слоны способны скорбеть, а вороны по очереди сидят со своими смертельно больными сородичами до самого конца. Учитывая вышесказанное, нам придется поискать что-нибудь другое, чем можно себя утешить.
Нам, аналитикам, необычайно повезло: в отличие от большинства профессий в контексте стремительно меняющейся глобальной технологической культуры наша ценность как специалистов, по общему мнению наших коллег, увеличивается с возрастом.
СТАРЕНИЕ
Если временно отвлечься от рассмотрения вопроса о смерти, что можно сказать о процессе старения? Возможно, он начинается с момента рождения, но в моем возрасте игнорировать его становится все труднее. Физический упадок – это неприятно, но больше всего меня беспокоит психическая составляющая. Я совсем не ожидала, что когда-нибудь мой собственный разум начнет меня подводить. Я не могла представить себе эту потерю в более молодом возрасте, мой разум – это «я», и он ощущается как непреходящий. Но сейчас я являюсь наглядным примером стихотворения Билли Коллинза (Billy Collins) (1999) «Забывчивость», которое я не могу не процитировать полностью для тех, кто с ним не знаком:
Имя автора первым уходит из памяти.
Вслед за ним послушно название и сюжет,
Разбивающая сердце развязка, весь роман,
Который вдруг окажется таким, словно ты его не читал,
И даже не слышал о нем.
Как будто дорогие воспоминания
Убегают в южное полушарие мозга,
В маленькую рыбацкую деревушку без телефона.
Именам девяти муз давно ты подарил прощальный поцелуй,
И видел, как квадратное уравнение пакует свои вещи.
И даже сейчас, когда вспоминаешь строй планет,
Что-то другое ускользает — цветок штата,
Адрес дяди или столица Парагвая.
То, что ты старательно пытаешься вспомнить,
Что вертится у тебя на кончике языка,
Застряло где-то в темном уголке твоей селезенки,
Оно уплыло вниз по темной мифологической реке,
С названием на букву «Л», насколько можешь ты припомнить,
На твоем собственном пути к забвению, где устремишься
К тем, кто забыл, как нужно плавать и ездить на велосипеде.
Неудивительно, что ты встаешь среди ночи, чтобы вспомнить
Дату знаменитого сражения, листая книгу о войне.
Неудивительно, что и луна в окне как будто выплыла
Из стихотворения о любви, которое ты когда-то помнил наизусть.
Перевод Ирины Ондроновой. Приводится с разрешения автора
В моём случае это имена, которые я не всегда могу сразу вспомнить, как и существительные в целом. У меня случается та самая «старость — не радость», когда я теряю часы, очки, ключи от машины, когда забываю, выключила ли я отопление, отправила ли благодарственное письмо, когда не могу вспомнить, зачем поднялась наверх. Мне приходится спрашивать своих учеников, не рассказывала ли я им свою любимую историю или анекдот. Когда на этой встрече я вижу тех, кого знаю и люблю уже много лет, иногда мне требуется время, чтобы из закромов своей памяти достать нужное имя, и от этого мне становится немного не по себе (к счастью, есть бейджики). Только молодой Фрейд мог приписать все забывание бессознательному конфликту.
Раньше я помнила пациента, о котором супервизант говорил неделю или две назад, а теперь мне приходится просить вкратце рассказать о нем, пока в уме не всплывет набор знаний, образов и ассоциаций, которые начинают складываться в общую картину, о проблемах пациента и о том, как они проявляются в интерсубъективном пространстве терапевта и пациента. Интересно, сколько ещё лет у меня есть, прежде чем эти небольшие, накапливающиеся проблемы нанесут ощутимый вред моей способности преподавать, проводить эффективную психотерапию и супервизию. (Уже сейчас я стараюсь не записывать пациентов на 15:00, потому что мне нужно вздремнуть.) И в то же время я вижу постоянные доказательства полезности накопленных мной знаний для людей, которых я консультирую.
Бессмертие может быть просто невыносимым. И у нас, действительно, иногда возникает мысль о том, что смерть — это избавление.
Мне вспоминается мой супервизор, который со мной работал в середине 70-х годов. Его беспокоило ухудшение умственных способностей коллеги, вероятно, из-за болезни Альцгеймера, а также ее упорство в намерении продолжать практику. И он попросил своих студентов сообщить ему, когда его пора будет отправить на пенсию. Мы были обескуражены этой просьбой, ведь мы идеализировали его и не могли представить, что он может начать умственно деградировать. Но мы постигли нечто ценное в том, что он предвидел и неизбежную потерю работоспособности, и вероятную утрату способности здраво оценить ее наиболее болезненные последствия. Кстати, он все еще практикует, ему 90 лет, и, как многие аналитики, которых мы все знаем, он все еще способен устанавливать блестящие, интуитивные, терапевтические связи, несмотря на умственные ограничения, с которыми он борется.
Идея о том, что мудрость — это своего рода утешительный приз за старение и что она компенсирует менее приятные его последствия, не совсем фантазия; нейробиологи начинают описывать нам специфику этой сделки в биологических и химических терминах. Нам, аналитикам, необычайно повезло: в отличие от большинства профессий в контексте стремительно меняющейся глобальной технологической культуры наша ценность как специалистов, по общему мнению наших коллег, увеличивается с возрастом. И в среднем аналитики (по крайней мере, аналитики-мужчины, исследований с участием женщин не проводилось) живут дольше, чем представители других профессий (Jeffery, 2001). Не всякая потеря функций равносильна полной потере, некоторые потери могут даже освободить место для новых возможностей. И все же я думаю, что мы должны вместе обсуждать вопросы, касающиеся ведения практики в пожилом возрасте, например, как, когда и по каким причинам уходить на пенсию, или уменьшать объем работы, или же продолжать работать с учетом наших ограничений. Каждый из нас примет свое решение, с его плюсами и минусами. Вместе с тем, коллективное рассмотрение этих вопросов может принести нам пользу.
Ограниченность — это не новое понятие для психоаналитиков, оно восходит, как минимум, к фрейдовской формулировке взросления, связанной с отказом от принципа удовольствия в пользу принципа реальности, конечным прототипом которого является реальность смерти. Его внимание к ограничениям соответствует умеренной, осторожной, зрелой европейской интеллектуальной перспективе, сильно расходящейся с более «подростковыми» американскими представлениями, которые могут объединять, как показала недавняя избирательная кампания, чувство исключительности, непобедимости и необоснованный оптимизм по поводу того, что все будет хорошо, если только приложить усилия.
Как утверждает Джордж Макари (George Makari, 2015), Соединенные Штаты были основаны на радикальной локковской метапсихологии, предполагающей неограниченные ресурсы, безграничный потенциал, неизбежность прогресса и уверенность в том, что все проблемы можно решить с помощью здравого смысла и находчивости (и, можно добавить, с отрицанием геноцида, необходимого для поддержания этой мифологии). Мы, американцы, внушаем нашим детям идею психотического всемогущества, что они могут быть теми, кем захотят, и могут достичь всего, что задумают, — и это чревато депрессией, когда сталкиваешься с реальностью собственной ограниченности.
Другой способ представить наше культурное окружение и отметить расхождение психоанализа с мейнстримом заключается в том, что большинство американцев придерживаются, скорее, комического, чем трагического видения человеческой жизни, стремления к счастью, а не примирения с неизбежной болью. Многие из вас знакомы с интересным различием, проведенным Мессером и Винокуром (Messer & Winokur, 1984) в терминах комического и трагического между образом мысли психологов американской бихевиористской традиции, с одной стороны, и мировоззрением психоаналитических мыслителей, находящихся под влиянием европейских идей, с другой.
Публичный дискурс изобилует намеками на то, что получение желаемого, того, на что человек «имеет право», того, что он «заслуживает», приравнивается к удовлетворенности жизнью.
В комической концепции ограничения оспариваются и преодолеваются, трудности в конце концов разрешаются и люди живут долго и счастливо. Дайте нам симптом, и мы применим технику, которая его устранит. Проблема решена. Стивен Рейснер (Steven Reisner, 2016) назвал это явление «коммодификацией симптома» (commodification of the symptom) и отметил, что оно лишает нас возможности увидеть в страдании более широкий смысл. Это не совсем в духе древних греков, которые почитали ограничения времени, судьбы и деяний богов и придерживались точки зрения о том, что самые болезненные жизненные исходы обусловлены человеческой надменностью и склонностью отрицать ограничения. По своему темпераменту большинство аналитиков скептически относятся к комическому видению и предпочитают либо видение трагическое, либо, как сформулировал Фрэнк Саммерс (Frank Summers, 2011), романтический взгляд, который также подчеркивает ограничение.
Все это тесно связано с нашим культурно обусловленным отношением к смертности. Если мы мало говорим и размышляем о нашей естественной ограниченности, а также окружаем угасание и смерть практиками, воплощающими различные версии отрицания (как отмечала Джессика Митфорд (Jessica Mitford, 1963), а также многие другие после нее), то упускаем возможность оценить то, что наша ограниченность может нам дать в психологическом плане, или то, что может перед нами открыться после неизбежного завершения жизни. Мне кажется, в какой-то степени наша проблема заключается в том, что у нас нет наглядного опыта «контрольной группы» относительно смертности. У нас нет эмоционального представления о том, какими бы мы были в мире, в котором мы жили бы вечно. Но я подозреваю, что Джеймс Гротштейн (James Grotstein) (цитируется по K. Gentile, 2016) был прав, когда говорил о «мучительном чувстве бесконечного». Бессмертие может быть просто невыносимым. И у нас, действительно, иногда возникает мысль о том, что смерть — это избавление. Когда человек достигает глубокой старости, когда он болен или устал, смерть может стать для него благословением. Мне рассказывали, что однажды драматурга Артура Миллера спросили, хотел ли бы он жить вечно, а в то время он был уже в преклонном возрасте. Он ответил отрицательно, заметив, что вечность не «даст мне ничего, чем можно было бы измерить мою жизнь».
Когда наши пациенты реагируют на невзгоды жалобой «Почему я?», мы можем проявить сочувствие, но мы также можем ответить «А почему нет? Беда может случиться с каждым из нас».
Дух индивидуализма, который пропитывает американскую мифологию, мешает нам разобраться в нашем отношении к смертности. В культурах, представители которых чтят своих предков, или сохраняют устные традиции своего племени из поколения в поколение, или обладают большей географической устойчивостью, чем наша беспокойная, не имеющая корней цивилизация, по-видимому, существует некое ощущение связности более крупной общности людей, когда отдельные ее представители покидают этот мир. Напротив, в обществе, которое организует политическую жизнь в соответствии с личными правами и почти не говорит об общественных обязательствах, а тем более о жертвах ради общего блага, люди склонны думать о себе как об изолированных, наделенных правами единицах. Следовательно, наступление смерти воспринимается как потеря всего ценного.
Идеология потребления, господствовавшая в американской экономической жизни с середины ХХ века, эксплуатировала нашу склонность мыслить в контексте неограниченных удовольствий. Публичный дискурс изобилует намеками на то, что получение желаемого, того, на что человек «имеет право», того, что он «заслуживает», приравнивается к удовлетворенности жизнью. Это обращение к нашим, якобы, неутолимым желаниям и безграничному нарциссизму, что особенно бросается в глаза в коммерческой рекламе и других попытках заставить нас что-то купить, основывается как на бихевиористских, так и на психоаналитических суждениях. Например, Джон Уотсон (John Watson, 1930), потеряв место в Университете Джонса Хопкинса из-за личного скандала, стал руководителем в рекламном агентстве Дж. Уолтера Томпсона, где с энтузиазмом принялся за работу по формированию предпочтений американского потребителя через обусловливание. Племянник Фрейда Эдвард Бернайс (Edward Bernays, 1928), которого часто называют «отцом пиара», был первым, кто предложил продавать продукцию, в рекламе которой присутствовал бы скрытый намек на то, что ее потребители получат более длительный и яркий секс. В противоположность патологии потребительства, которой страдают Соединенные Штаты, приведу японскую пословицу, согласно которой истинное счастье не в том, чтобы получить то, что хочешь, а в том, чтобы захотеть то, что имеешь. Большинству жителей Запада эта идея не очень близка, но большинство аналитиков с ней знакомы, учитывая то, что мы неоднократно наблюдаем в ходе работы с пациентами.
Соединенные Штаты были основаны на радикальной локковской метапсихологии, предполагающей неограниченные ресурсы, безграничный потенциал, неизбежность прогресса и уверенность в том, что все проблемы можно решить с помощью здравого смысла и находчивости
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПСИХОАНАЛИТИКОВ
Как эти размышления влияют на нашу работу в качестве психоаналитических терапевтов, супервизоров, консультантов, ученых и преподавателей? Хотя многие современные исследователи в области психотерапии определяют прогресс по поведенческим изменениям, которые можно проследить, аналитические терапевты заинтересованы именно в том, чтобы помочь людям принять то, что нельзя изменить. В отличие от идей американского движения позитивной психологии, уделяющей основное внимание достижению счастья, психоаналитики считают, что важнейшей составляющей психологического здоровья является способность переносить страдания. Фрейд не шутил, когда говорил, что задача психоанализа заключается в том, чтобы заменить невротическое страдание обычной человеческой болью. Подчинение тому, что больше нас — это, как изящно сформулировал Эммануэль Гент (Emmanuel Ghent, 1990), необходимая составляющая жизни человека, которая даже приносит некое удовлетворение.
Такое понимание можно найти во всех основных психоаналитических направлениях: в утверждениях Фрейда о том, что наша смертность стимулирует наше творчество; в работе Кернберга (например, Kernberg, 2008) о том, что излечение от пагубной нарциссической патологии подразумевает принятие смерти и конечности времени; в концепции Лакана (Lacan, 1989) об «имени» или «нет» отца (игра слов «nom» — имя и «non» — нет); в концепции «третьего», который вмешивается в пару «делающий–подвергающийся действию» (doer–done to) и открывает трансформирующее пространство (Benjamin, 2004); в манифесте сэлф-психологии Лихтенберга и Вольфа (Lichtenberg & Wolf, 1997), первый принцип которой соединяет усиленное ощущение Самости, развитие творчества и принятие смертности. Работа Карло Штренгера (Carlo Strenger, 2009), посвященная среднему возрасту, схожим образом соотносит творчество с принятием смерти и предела. О том же говорит и Спирос Орфанос (Spyros Orfanos, 2006), исследуя миф о Прометее. Сюда же можно отнести размышления Леан Нгуен (Leanh Nguyen, 2007) о жертвах травм и пыток, которые уничтожили смертность и сопутствующее ей творчество. Подобное восприятие можно найти и в сборниках трудов различных авторов по психодинамике, например книге 2007 года под редакцией Брента Уиллока, Лори Бом и Ребекки Кертис «О смерти и конце» (Willock, Bohm, & Curtis, 2007).
Аналитические терапевты понимают процесс принятия того, что нельзя изменить, как включающий в себя создание отношений, когда мы можем называть свои желания, выражать свой гнев по поводу неполученных удовольствий, которые мы, возможно, заслужили, и пройти через процесс горя, который завершается переходом к удовлетворению тем, что можно получить, вместо того, чтобы пребывать в состоянии негодования или вечной жертвы. Когда наши пациенты реагируют на невзгоды жалобой «Почему я?», мы можем проявить сочувствие, но мы также можем ответить «А почему нет? Беда может случиться с каждым из нас». Фрейд первый известный мне писатель, который назвал скорбь «работой». На мой взгляд, это одно из его самых блестящих умозаключений. «Работа скорби» (mourning labor) — это, своего рода, тяжелый труд, которому мы сопротивляемся и к которому в то же время стремимся, когда участвуем в процессе, который он назвал «проработкой» (working through).
Марта Старк (Martha Stark, 1994) и другие пошли еще дальше, заявив, что психоаналитическая терапия сама по себе является длительным процессом горевания (grieving). Ранее Хендрик Руйтенбек (Hendrik Ruitenbeek, 1983) говорил, что задача анализа скорби по собственной возможной смерти вывести эту проблему из бессознательного, где, по его мнению, она мешает эмоциональному созреванию пациента. Мы, терапевты, можем помочь пациентам принять ограниченность как банальными способами, например, небрежно заметив: «Да, я подозреваю, что ваш муж никогда уже не будет нормально убирать за собой», так и способами, которые повлекут радикальные последствия, например, открыто заявив человеку, пережившему множество психологических травм, что, хотя он и может надеяться на то, что его жизнь наладится, он никогда больше не будет таким, каким был до обрушившихся на него несчастий.
И теперь мы, похоже, соглашаемся с тем, что, в отличие от убеждений, проникнутых комическим умонастроением, в том смысле, что скорбь «проходит» или что люди, столкнувшиеся с потерей, затем примиряются с ней, скорбь не заканчивается никогда. Такое мнение высказал Питер Шабад (Peter Shabad, 2001), а затем и Мэрилин Мак-Кейб (Marylin McCabe, 2003), и многие другие авторы-аналитики. Кроме случаев, когда человек постоянно находится в параноидно-шизоидной позиции, за каждым достижением в области развития следует печаль по поводу ограниченности. Вместо того, чтобы, в конечном счете, прекратиться, скорбь становится предпосылкой для возникновения благодарности, сопереживания и генеративности. Повреждение является источником возможного исцеления.
Я крикнула ей вслед: «Ты можешь меня ненавидеть, но тебе все равно придется убрать в своей комнате». Она вернулась, просунула голову в дверь, заявила: «И вообще, ты мне никогда не нравилась!» и захлопнула дверь за собой. Но она все-таки прибралась в своей комнате.
ТВОРЧЕСТВО И ГЕНЕРАТИВНОСТЬ
В традициях великой духовной и религиозной мудрости говорится о том, что за потерей следует приобретение; что скорбь о том, чего нет, порождает осознание ценности того, что есть; о спокойствии, которое приходит, когда не гонишься за тем, чего не может быть; и о том, что творчество может возродиться, подобно фениксу, из пепла опустошенности. Принятие ограниченности через процесс горя, по-видимому, является лучшим доступным нам лекарством от нарциссических фантазий о всемогуществе и безграничности. Говоря нашим детям о том, что их потенциал безграничен, мы, вероятно, оказываем медвежью услугу даже самым талантливым из них. Безграничность — слишком обширная рамка для того, чтобы наладить жизнь, наполненную смыслом.
С точки зрения клинической практики, разочарование может оказаться полезным. Это нелегкий урок для тех из нас, у кого большое сердце и кто терпеть не может разочаровывать своих пациентов. По мере того, как я росла как терапевт, мне пришлось научиться чувствовать себя спокойно в тех случаях, когда я говорила пациентам об ограниченности, и относиться терпимо к их ярости и горю. Поначалу я была склонна воспринимать невротически несчастных или травмированных людей, скорее, как голодных детей, нуждающихся в нормальном питании, чем как злых и агрессивных, нуждающихся в том, чтобы реагировать на существование объективной ограниченности болезненным протестом, который нужно было понять и принять, особенно когда мишенью для их яростных протестов была я.
Материнство помогло мне с тем, что когнитивно-поведенческие терапевты называют «когнитивным рефреймингом». Например, когда одной из моих дочерей было около семи лет, я сказала ей, что к концу дня она должна прибраться в своей комнате. Она сердито выскочила из дома во двор с воплями о том, что ненавидит меня. Я крикнула ей вслед: «Ты можешь меня ненавидеть, но тебе все равно придется убрать в своей комнате». Она вернулась, просунула голову в дверь, заявила: «И вообще, ты мне никогда не нравилась!» и захлопнула дверь за собой. Но она все-таки прибралась в своей комнате. Что еще важнее, она, по-видимому, осталась очень довольна тем, как по-новому разложила свои вещи.
Стремление побороть чувство вины, безусловно, является фактором, благодаря которому тяжелая утрата может стимулировать жизненную активность.
По мере профессионального роста я испытывала все меньше затруднений при установлении реалистичных ограничений; в этом мне помогли работы по психоанализу, особенно, вероятно, идея Винникотта (Winnicott, 1968) о том, что маленьким детям нужно «уничтожить» мать, а затем усвоить на эмоциональном уровне тот факт, что она пережила их разрушающее воздействие — это один из его самых ярких примеров взаимосвязи между ограничением и взрослением. Рост, который происходит, когда отказываешься от фантазии о том, что у тебя может быть все, в том числе и взаимоисключающие вещи, бесценен.
Микаэл Балинт (Michael Balint) полагал, что область созидания, по сути, безобъектна, и, следовательно, поскольку ее нельзя изучить в контексте переноса, она более загадочна, чем эдипова область или область базисного дефекта, которые обнаруживаются непосредственно в межличностном пространстве терапии. Я соглашусь с загадочностью, но не уверена, что Балинт был прав насчет безобъектности. Обычно в периоды моего кратковременного пребывания в области созидания я ощущаю ясную, непрерывную связь с интернализированным объектом, моей идеализированной мертвой матерью, чью «миссию» я продолжаю, — данный процесс типичен для нормального процесса скорби, который подробно рассмотрел Отто Кернберг (Otto Kernberg, 2010) в своей трогательной работе, написанной после смерти жены Паулины. Граница смерти создала пространство для восстановления и продолжения.
Также имеются эмпирические основания для того, чтобы сделать вывод о наличии связи между пережитым в детстве опытом столкновения с реальностью смерти и последующим развитием творческой деятельности. Моя бывшая студентка Аннализа Эрба, написавшая докторскую диссертацию (Erba, 2003) о взаимосвязи между потерей родителей в детском возрасте и творческой деятельностью, нашла статью в журнале «American Psychologist» (Eisenstadt, 1978) и более позднюю книгу в соавторстве (Eisenstadt, Haynal, Rentchnick, & De Senarclens, 1989), где Дж. М. Айзенштадт рассматривает многочисленные доказательства того, что тяжелая утрата в детстве коррелирует с развитием творческой деятельности во взрослом возрасте. В этом контексте, кстати, я рекомендую также книгу Филлис Коэн и Марка Соссина «Исцеление после потери родителей в детстве» (Cohen & Sossin, 2014).
При потере главного объекта любви в любом возрасте у того, кто остался жить, возникает чувство вины, и человек продолжает жить дальше как за себя, так и за умершего человека. Стремление побороть чувство вины, безусловно, является фактором, благодаря которому тяжелая утрата может стимулировать жизненную активность. Если ребенок считает, что его собственные враждебные фантазии тем или иным образом убили объект его любви, у него возникнет потребность компенсаторно искупить свою вину добрыми делами. Это стремление к искуплению, возможно, проявляется особенно сильно, когда существует реалистичная, а также бессознательная всемогущая невротическая вина. Однажды Адлая Стивенсона (Adlai Stevenson) попросили утешить мальчика, который случайно застрелил своего юного друга. Обратились именно к Стивенсону, потому что в детстве он сам оказался в такой же ситуации: когда ему было 12 лет, на вечеринке у себя дома он случайно выстрелил в 16-летнего друга своей сестры из пистолета, который, как полагали, не был заряжен. Ранение оказалось смертельным. Стивенсон посоветовал матери мальчика, пережившего такой же опыт, какой пережил он сам, сказать ее подавленному сыну, что «он должен жить за двоих» (McKeever, 1991).
И есть также простой факт, что если родителя нет в живых, то приходится его как бы «придумывать» («make it up») — очень практичный вид творчества, обусловленный отсутствием модели для собственной жизни. Представители моего поколения, живущие сейчас в среднем беспрецедентно долгой и здоровой жизнью, обнаруживают, что им приходится придумывать её похожим образом. Среди нас достаточно много тех, кто исследует эту новую область здоровья и жизненных сил после 70, и, возможно, нам тоже будет что рассказать о том, что значит жить хорошо в преклонном возрасте.
Большинство из нас лечили пациентов, которые, возможно, и не пережили страдания, причинившие непоправимый вред их здоровью, но которые «застыли» в психологическом плане и словно ощущают странное безразличие к тому, чтобы продолжать жить дальше.
Но, я думаю, что главным фактором, способствующим творческой мобилизации ресурсов в ответ на потери и ограничения, является крепко усвоенный урок, что жизнь непредсказуема и все, что угодно, может случиться с кем угодно в любом возрасте. Живи сейчас, ибо завтра, в буквальном смысле, ты можешь умереть. Смерть любимых друзей и родственников может заставить некоторых из тех, кто остался жить, почувствовать, что жизнь бессмысленна, мы часто наблюдаем таких подавленных людей в ходе терапии. И все же, похоже, что это помогает другим понять, что лучше жить полной жизнью в тот короткий срок, который нам отведен. И когда мы работаем с полностью омертвевшими пациентами, пережившими то, что они воспринимают как невыносимую потерю, процесс скорби может вернуть им жизненные силы.
Схожим образом люди, у которых диагностированы неизлечимые заболевания, часто говорят, что теперь они наслаждаются жизнью, более остро ощущая ее ценность. Или в их творчестве происходит резкий скачок, подобный тому, который мы недавно наблюдали у Дэвида Боуи (David Bowie). Эрик Фейр (Eric Fair), сотрудник разведки Агентства национальной безопасности, который недавно опубликовал пронзительную автобиографичную книгу «Следствие. Воспоминания» о своей причастности к пыткам в Ираке, обнаружил у себя серьезное заболевание сердца, от которого он чуть не умер; в дальнейшем он перенес пересадку сердца, которая продлила ему жизнь, но, вероятно, самое большее, на пару десятилетий (Fair, 2016). Гнетущее ощущение того, что время уходит, побудило его дописать книгу за то время, которое у него еще оставалось.
Возникает вопрос, каковы те сложные психологические последствия, которые испытывают люди, живущие в нашу эпоху, в которой впервые в истории человечества снизилась смертность при родах, так же, как и ранняя детская смертность от болезней, а продолжительность жизни увеличилась по сравнению с поколением, не знавшим пенициллина. Одним из последствий является чувство облегчения и безопасности, но возможно ли, что люди также стали сильнее ощущать внутреннюю опустошенность, экзистенциальное отчаяние и перестали осознавать, что нужно спешить жить полной жизнью? Никто из нас, скорее всего, не променял бы нашу довольно значительную продолжительность жизни на ту, что была в предыдущую эпоху, и все же редкие изменения полностью обходятся без каких-либо потерь.
Большинство из нас лечили пациентов, которые, возможно, и не пережили страдания, причинившие непоправимый вред их здоровью, но которые «застыли» в психологическом плане и словно ощущают странное безразличие к тому, чтобы продолжать жить дальше. Они могут пассивно ждать, пока мы скажем им, что и как делать, или тратят все время сессий, жалуясь на несправедливость жизни, или теряются в попытках найти ответ на вопрос: «А что, если?», вместо того чтобы подумать: «А что есть сейчас и какие варианты возможны, учитывая то, что имеется в данный момент?». Они ждут, когда изменится что-то внешнее. Они убивают время. Они затягивают терапию, которая истощает жизненные силы обеих сторон, в надежде, что вознаграждение, которое они должны были получить, когда были моложе, внезапно появится само собой в ходе терапии, и они воспринимают нас как враждебных, лишающих и/или некомпетентных, когда мы тактично предполагаем, что этого не произойдет. Несмотря на то, что время может быть нашим единственным невозобновляемым ресурсом, такие пациенты, похоже, не ощущают время как нечто преходящее.
Пока такие клиенты не получат первый «тревожный звонок», пока они «не опустятся на самое дно», или вдруг не заболеют, или пока их не вдохновит образ жизни, отличающийся от привычного американского «получи, потрать и блаженствуй», им, похоже, будет очень трудно помочь. Напротив, пациентам, пережившим ужасные несчастья и ставшим инвалидами, терапия может помочь достигнуть значительного прогресса в адаптации к их серьезным трудностям. Наши подавленные пациенты часто говорят нам: «Какое это имеет значение? Мы все равно умрем». И все же, возможно, именно тот факт, что конец ожидает всех нас, придает нашей жизни смысл.
Психоаналитические исследования привязанности оказали значительное влияние на научные представления как о развитии, так и о психотерапии и, в конечном счете, на наше общекультурное понимание того, что нужно маленьким детям.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СЕКЦИИ ПСИХОАНАЛИЗА
Средний возраст членов 39-й Секции, как мы с беспокойством отмечали на нескольких заседаниях Правления, продолжает увеличиваться. В нашу эпоху рост численности населения произошел за счет скачка рождаемости в годы после Второй мировой войны; последующее поколение не столь многочисленно и не проявляет особого энтузиазма участвовать в повышении рождаемости. За последнее десятилетие мы, как представители когорты родившихся в послевоенные годы, потеряли многих дорогих нам людей старшего поколения, как членов Секции психоанализа, так и других выдающихся аналитиков, среди которых Анн Аппельбаум (Ann Appelbaum), Мартин Бергманн (Martin Bergmann), Сидни Блатт (Sidney Blatt), Хедда Болгар (Hedda Bolgar), Норберт Фридман (Norbert Freedman), Джеймс Гротштейн (James Grotstein), Гарольд Сирлс (Harold Searles), Джеральд Стеклер (Gerald Steckler), Ханс Струпп (Hans Strupp), Йоханна Табин (Johanna Tabin), Роберт Валлерстайн (Robert Wallerstein) и Элизабет Янг-Брюль (Elisabeth Young-Breuhl). Не говоря уже об Оливере Саксе (Oliver Sacks), человеке, чья жизнь служит наглядным примером ценности многолетней терапии (50 лет в психоанализе, блестящая карьера и достойная жизнь (Sacks, 2015)). Насколько я знаю, не осталось никого, кто лично знал Фрейда, хотя бы просто как взрослого человека. Значительная часть живой истории психоанализа стала призраком, который мы теперь должны превратить в предка.
В 2000 году, когда вдруг не стало Стивена Митчелла (Steven Mitchell), мы были склонны воспринимать это как нелепую превратность судьбы. Ему было всего 54, как и мне в то время. Сейчас осознание того, что все мы смертны, уже не вызывает такого потрясения. Поколение аналитиков, к которому принадлежу и я, начинает сталкиваться с последним ограничением. В этом году нас покинула Мюриэл Даймен (Muriel Dimen). Несколько наших выдающихся коллег борются с серьезными хроническими и/или неизлечимыми заболеваниями. Недавно семеро аналитиков собрались на званом обеде, где мы узнали, что только один из нас не болел раком. Моя близкая подруга и ровесница Сандра Бем (Sandra Bem), в более позднем возрасте работавшая в области психодинамической терапии, целенаправленно шла к тому, чтобы совершить самоубийство. Два года назад она это сделала, чтобы «не перестать быть Сэнди», когда из-за болезни Альцгеймера ее чувство непрерывности самосознания начало разрушаться.
С давних времен старшее поколение стремилось передать свои знания и свой опыт потомкам. И я иногда тоже размышляю о том, какой вклад внесло мое собственное поколение аналитиков в эту Секцию, и о том, как мы сейчас создаем новые возможности для раскрытия потенциала следующего поколения. Многие из наших собственных достижений зародились в обстановке ограниченности: как психологов-аналитиков нас изначально не приняли правящие силы организованного психоанализа. Вместо того, чтобы «зализывать раны», мы основали собственные творческие пространства и, в конечном счете, открыли психоанализ за пределами замкнутого, самоподдерживающегося медицинского сообщества.
Иногда, ощущая превосходство нашей профессии, мы, психологи, вели себя надменно, а когда с таким же высокомерием к нам относились психиатры, это нас возмущало.
Кроме того, в Секции 39 зародилось то, что стало «реляционным поворотом». Мы нормализовали контрперенос, призвали к новому пониманию интерсубъективного, демократизировали тон аналитической терапии и подтвердили неизбежность разыгрывания. Мы бросили вызов патологизации сексуальных различий и предложили по-новому взглянуть на гендер, желание и сексуальность. Мы подвергали критике логический позитивизм в академической психологии и рассматривали психоанализ под новыми углами зрения: в свете феноменологии, герменевтики, постмодернизма, фаллибилизма, конструктивизма, общей теории систем, теории поля, нейробиологии и многочисленных философских направлений. Мы отвергли ту метапсихологию, которая не признает искусство, литературу и гуманитарные науки полноправными источниками нашего знания и нашей практики.
Даже исходя из определения науки в узком смысле, мы достигли многого. Психоаналитические исследования привязанности оказали значительное влияние на научные представления как о развитии, так и о психотерапии и, в конечном счете, на наше общекультурное понимание того, что нужно маленьким детям. Мы создали, проверили и усовершенствовали краткосрочные психодинамические модели терапии и сейчас эмпирически тестируем долгосрочные модели терапии расстройств личности. В основном представители именно нашей секции неустанно обличают организованную психологию в том, что с недавнего времени она не гнушается вступать в сговор с сильными в ущерб слабым. Мы настаиваем на том, чтобы Американская психологическая ассоциация признала преступления, совершенные во имя психологии, и продолжаем обличать ее и дальше.
Мы поддерживаем точку зрения аналитиков, которые настаивают на том, что психотические пациенты нуждаются в чуткой терапии, а не просто в медикаментозном лечении «химического дисбаланса». Мы разработали меры помощи для бедных, бесправных, зависимых, бездомных, переживших травмы, ветеранов и их семей, а также тех, кто находится в приемной семье. Мы привнесли идеи буддизма и других восточных учений в западный психоанализ. Несмотря на то, что нам предстоит пройти еще долгий путь в этом направлении, наши собрания отличаются разнообразием по сравнению с большинством других психоаналитических организаций или, если уж на то пошло, по сравнению с нашей же Секцией на момент её создания, когда в ней преобладали белые, предположительно гетеросексуальные, пожилые евреи-мужчины, живущие в городах.
Несмотря на все вышесказанное, я думаю, будет справедливо, если мы признаем некоторые аспекты, в которых мы подвели следующее поколение. Мы недостаточно сохранили психоаналитическое присутствие в академических кругах, практике учреждений, консультационных центрах, больницах, процедурах аккредитации и разграничении профессиональной этики и управления рисками, как красноречиво отметил Стивен Солдз (Stephen Soldz, 2016). Мы были слепы ко многим аспектам привилегий большинства. Мы предпочитали разговаривать друг с другом и бороться друг с другом, вместо того чтобы разговаривать с внешним миром и бороться за ценность общего психоаналитического восприятия. Иногда, ощущая превосходство нашей профессии, мы, психологи, вели себя надменно, а когда с таким же высокомерием к нам относились психиатры, это нас возмущало. Компании, стремящиеся продать нам все, что угодно, от пластинок в 1950-х годах до ботокса в более позднее время, десятилетиями взращивали и подпитывали нарциссизм представителей послевоенного поколения. Нам нравится считать себя творческим поколением — в конце концов, именно мы «изобрели» секс, наркотики и рок-н-ролл. Может случиться, что люди, ощущающие себя вечно молодыми, не станут всерьез задумываться о потребностях тех, кто придет после них.
Однако, я искренне надеюсь, что, несмотря на наши ошибки, мы сумели передать следующему поколению психоаналитических психологов тот «порох в пороховницах», который помог зажечь все области творчества, по праву являющиеся предметом нашей гордости. Аналитиков справедливо обвиняют в том, что они в высшей степени индивидуалистичны, как и культура, в которой мы выросли. Но мы также являемся частью сообщества, набором социальных связей, историческим движением, и с этой более широкой точки зрения не все, что связано с нами, умирает, когда мы умираем как личности. В заключение позвольте мне облачиться в мантию своей психоаналитической эпохи и обратиться к тем, кто вступает в пору зрелости в этой странной профессии, где нужна вечность, чтобы стать старшим или иногда даже чтобы хотя бы выглядеть взрослым, но где получаешь огромное личное и общественное удовлетворение от того, что становишься опытным и закаленным.
Вам, молодым коллегам, предстоит встретиться лицом к лицу с более жестким профессиональным миром, чем тот, с которым имели дело мы в вашем возрасте. Ваши сражения не будут похожи на те, в которых участвовали мы. Вы «схватываете» в современном мире то, чего не понимаем мы. Уже сейчас начинайте творчески работать на основе ваших знаний и вашего собственного психоаналитического опыта. Создавайте группы коллегиальной супервизии, учебные группы, новые подразделения Секции, новые политические инициативы. И, пожалуйста, пишите. Вам не обязательно овладевать всем сводом обширных психоаналитических знаний, прежде чем начать вносить в них свой собственный вклад. То, как психоанализ будет выглядеть через 40 лет, несомненно, будет сильно отличаться от того, как он выглядит сейчас, но его основное внимание, сосредоточенное на силе бессознательных процессов, и его внутреннее общее понимание ограниченности и относительной достаточности могут послужить основой для многочисленных новых и жизненно важных метафор и интеграций. Это все, что вам нужно, чтобы начать путешествие, конец которого будет неизвестен, но несомненен, и пути которого могут служить источником вдохновения за пределами нашего ограниченного воображения.
БИБЛИОГРАФИЯ
- Balint, M. (1979). The basic fault: Therapeutic aspects of regression. London, UK: Tavistock.
- Becker, E. (1973). The denial of death. New York, NY: The Free Press.
- Benjamin, J. (2004). Beyond doer and done to: An intersubjective view of thirdness. The Psychoanalytic Quarterly, LXXIII, 5–46. http://dx.doi.org/10.1002/j.2167-4086.2004.tb00151.x
- Bernays, E. (1928). Propaganda. New York, NY: H. Liveright.
- Cohen, P., & Sossin, K. M. (2014). Healing after parent loss in childhood: Therapeutic implications and theoretical considerations. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Collins, B. (Ed.). (1999). Forgetfulness. In Questions about angels (pp. 20–22). Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press. Reprinted by permission.
- Eisenstadt, J. M. (1978). Parental loss and genius. American Psychologist, 33, 211–223. http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.33.3.211
- Eisenstadt, J. M., Haynal, A., Rentchnick, P., & De Senarclens, P. (1989). Parental loss and achievement. Madison, CT: International Universities Press.
- Erba, A. (2003). Paradise lost: Potential long-term sequelae of early maternal death in two exceptionally creative people in history (Unpublished doctoral dissertation). Rutgers University Graduate School of Applied and Professional Psychology, New Brunswick, NJ.
- Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York, NY: Norton.
- Erikson, E. H., & Erikson, J. (1997). The life cycle completed: Extended version with new chapters on the ninth stage of development. New York, NY: Norton.
- Fair, E. (2016). Consequence: A memoir. New York, NY: Henry Holt.
- Gentile, K. (2016). Generating subjectivity through the creation of time. Psychoanalytic Psychology, 33, 264 –283. http://dx.doi.org/10.1037/a0038519
- Ghent, E. (1990). Masochism, submission, surrender – Masochism as a perversion of surrender. Contemporary Psychoanalysis, 26, 108–136.http://dx.doi.org/10.1080/00107530.1990.10746643
- Jeffery, E. H. (2001). The mortality of psychoanalysts. Journal of the American Psychoanalytic Association, 49, 103–111. http://dx.doi.org/10.1177/00030651010490011001
- Kernberg, O. F. (2008). The destruction of time in pathological narcissism. The International Journal of Psychoanalysis, 89, 299–312. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-8315.2008.00023.x
- Kernberg, O. (2010). Some observations on the process of mourning. The International Journal of Psychoanalysis, 91, 601–619. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-8315.2010.00286.x
- Lacan, J. (1989). Ecrits. London, UK/ New York, NY: Routledge.
- Lichtenberg, J. D., & Wolf, E. (1997). General principles of self-psychology: A position statement. Journal of the American Psychoanalytic Association, 45, 531–543.
- Makari, G. (2015). Soul machine: The invention of the modern mind. New York, NY: Norton.
- McCabe, M. (2003). The paradox of loss: Toward a relational theory of grief. Santa Barbara, CA: Praeger.
- McKeever, P. (1991). Adlai Stevenson: His life and legacy. Columbus, GA: Quill (Harper).
- Messer, S. B., & Winokur, M. (1984). Ways of knowing and visions of reality in psychoanalytic theory and behavior therapy. In H. Arkowitz & S. B. Messer (Eds.), Psychoanalytic therapy and behavior therapy: Is integration possible? (pp. 63–100). New York, NY: Plenum Press. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-2733-2_5
- Mitford, J. (1963). The American way of death. New York, NY: Simon & Schuster.
- Nguyen, L. (2007). The question of survival: The death of desire and the weight of life. The American Journal of Psychoanalysis, 67, 53–67. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.ajp.3350007
- Orfanos, S. (2006). Mythos and logos. Psychoanalytic Dialogues, 16, 481–499.
- PDM Task Force. (2006). Psychodynamic diagnostic manual. Silver Spring, MD: Alliance of Psychoanalytic Organizations.
- Pizer, B. (1997). When the analyst is ill: Dimensions of self-disclosure. The Psychoanalytic Quarterly, 66, 450 – 469.
- Reisner, S. (2016, April 7). How the APA became the sorcerer’s apprentice. (Unpublished panel talk). Spring meeting of the Division of Psychoanalysis (39), American Psychological Association, Atlanta, GA.
- Ruitenbeek, H. M. (Ed.). (1983). The interpretation of death. New York, NY: Jason Aronson.
- Sacks, O. (2015). On the move: A life. Jewish Quarterly, 62, 24–25. http://dx.doi.org/10.1080/0449010X.2015.1051697
- Shabad, P. (2001). Despair and the return of hope: Echoes of mourning in psychotherapy. Northvale, NJ: Jason Aronson.
- Soldz, S. (2016, April 7). How the APA became the sorcerer’s apprentice. (Unpublished panel talk). Spring meeting of the Division of Psychoanalysis (39), American Psychological Association, Atlanta, GA.
- Spira, M. S., & Berger, B. (2001). The penultimate. Psychoanalytic Social Work, 8, 27– 42. http://dx.doi.org/10.1300/J032v08n01_03
- Stark, M. (1994). Working with resistance. Northvale, NJ: Jason Aronson.
- Strenger, C. (2009). Paring down life to the essentials: An epicurean psychodynamics of midlife change. Psychoanalytic Psychology, 26, 246–258. http://dx.doi.org/10.1037/a0016447
- Summers, F. (2011). Psychoanalysis: Romantic, not wild. Psychoanalytic Psychology, 28, 13–32. http://dx.doi.org/10.1037/a0022558
- Van Raalte, P. (1984). The impact of death of the psychoanalyst on the patient: Theoretical considerations and clinical implications (Unpublished doctoral dissertation). Rutgers Graduate School of Applied and Professional Psychology, New Brunswick, NJ.
- Watson, J. (1930). Behaviorism. New York, NY: Norton.
- Willock, B., Bohm, L. C., & Curtis, R. C. (Eds.). (2007). On death and endings: Psychoanalysts’ reflections on finality, transformations and new beginnings. London, UK: Routledge.
- Winnicott, D. W. (1968). The use of an object and relating through cross identifications. In D. W. Winnicott (Ed.), Playing and reality (pp. 86–94). New York, NY: Basic Books.
[1] Генеративность — интерес к следующему поколению и его воспитанию, проявляемый в продуктивности и созидательности в различных сферах жизни у человека, достигшего 40 лет и положительно переживающего свойственный этому возрасту кризис (https://psychology.academic.ru). Прим. редактора