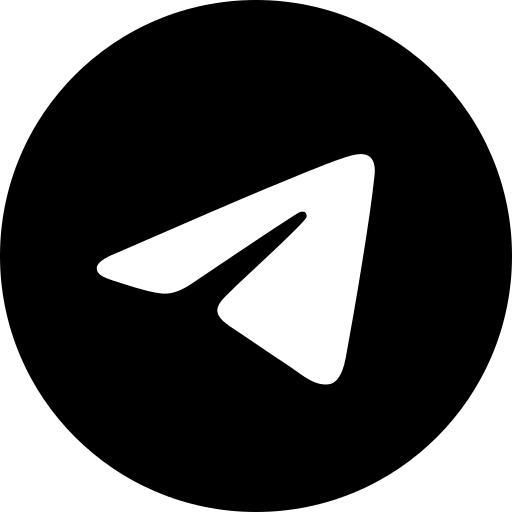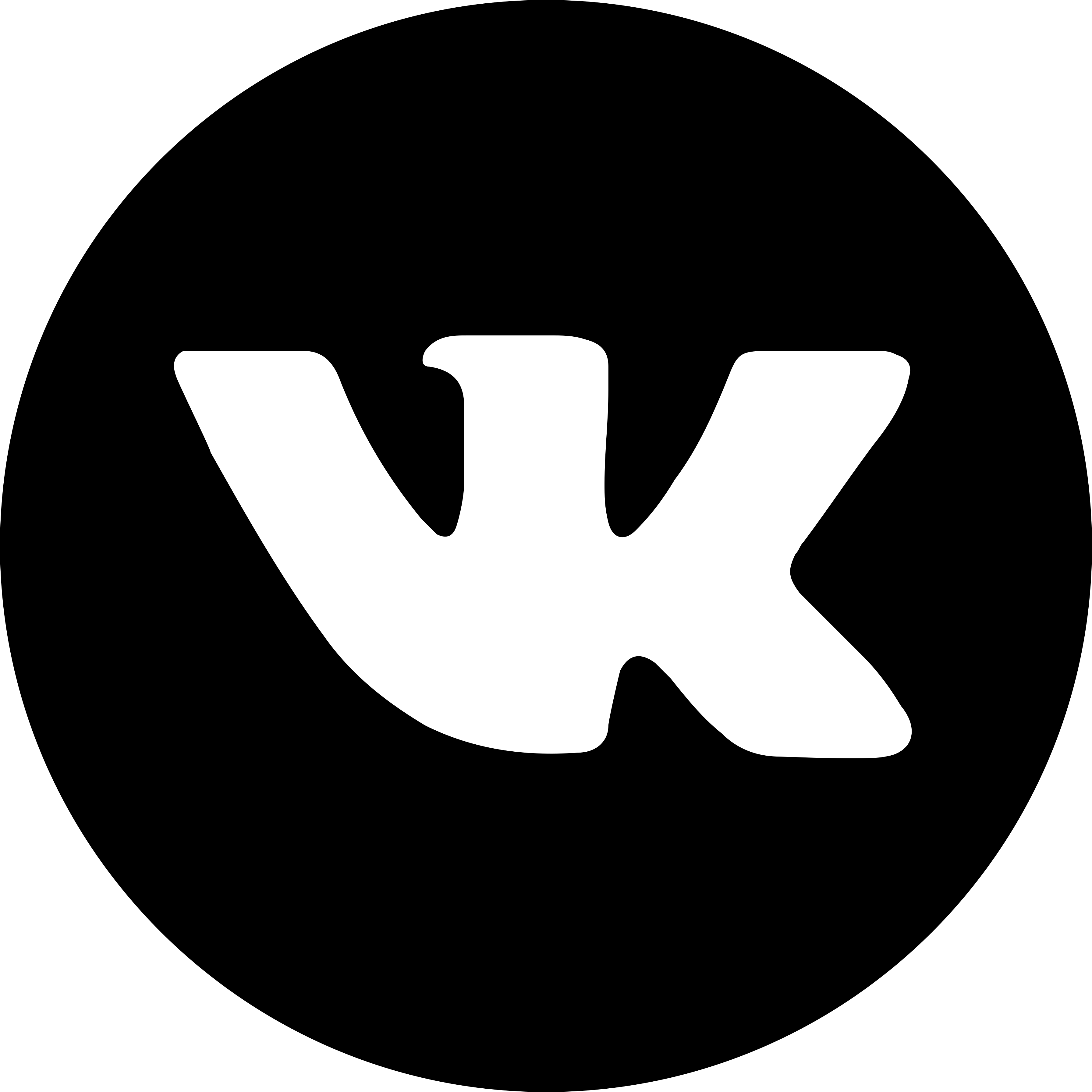- Клинический психолог, психотерапевт, психоаналитик
- Тренинг-аналитик и супервизор ЕАРПП (Россия, РО-Екатеринбург) и ECPP (Vienna, Austria)
- Научный редактор журнала «Пространство психоанализа и психотерапии»
- Член Правления ЕАРПП
- Член Российского Психологического Общества (РПО)
- Старший преподаватель кафедры клинической психологии и психофизиологии Уральского Федерального Университета
- Член Международного института психотерапии (IPI)

- Клинический психолог, психотерапевт, психоаналитик
- Тренинг-аналитик и супервизор ЕАРПП (Россия, РО-Екатеринбург) и ECPP (Vienna, Austria)
- Научный редактор журнала «Пространство психоанализа и психотерапии»
- Член Правления ЕАРПП
- Член Российского Психологического Общества (РПО)
- Старший преподаватель кафедры клинической психологии и психофизиологии Уральского Федерального Университета
- Член Международного института психотерапии (IPI)
Психологическая травма – очень распространенное явление, изучаемое давно и с разных сторон, получившее множество различных интерпретаций, но до сих пор до конца не понятое. На сегодняшний день нет способа понимать травму единым и достаточно эффективным способом. Концептуализации травмы, встречающиеся в литературе, скорее, описывают отдельные стороны явления, чем все явление целиком, и аспекты, не умещающиеся в рамки концепций, отфильтровываются и в итоге упускаются. При попытке целостно увидеть феномен травмы, несмотря на все усилия по согласованию взглядов на его природу, возникает ощущение хаоса.
Я намерен рассмотреть тему травмы концептуально, поскольку считаю более важным целостное понимание явления и создание возможностей для нахождения собственной позиции, чем поиск конкретных техник и приемов, которые всегда являются вторичными, производными от эффективной позиции и естественно проистекают из нее – давно известно, что нет ничего практичнее хорошей теории. На первый взгляд центральная идея этой статьи кому-то может показаться тривиальной, кому-то – крамольной, но я приглашаю рассмотреть ее внимательно, поразмышлять, и в каком-то плане поиграть с ней. Такой подход поможет создать творческое пространство, подходящее как для обретения смыслов, так и позиции, которая, на мой взгляд, является наиболее важной составляющей терапевтической работы. Как уже сказано, существует очень много разных представлений о травме, и в обозначенном нами сейчас пространстве игры я предлагаю посмотреть на них как на пазлы, которые можно использовать для складывания новых картин.
При попытке целостно увидеть феномен травмы, несмотря на все усилия по согласованию взглядов на его природу, возникает ощущение хаоса.
Хочется найти способ более эффективно мыслить о травме, хотя поиск такого способа может поставить состоятельность самого этого понятия под сомнение и потребовать пересмотра имеющихся взглядов.
ПОНЯТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ
Одна из главных неудач в дискурсе о травме – это выбор термина и его происхождение, т.к. для описания психических процессов был взят медицинский термин, означающий физическую рану или повреждение. И когда это понятие переносится в область психики, возникают серьезные проблемы и вопросы о возможности его корректного использования. Т.е уже само применение этого понятия создает проблему, поскольку в самом начале приводит к выбору неэффективного пути.
Я предлагаю рассмотреть травму иначе, чем ее рассматривали ранее, и попробую это аргументировать. Большинство авторов привязываются к понятию травмы, и многие диагностические категории основываются на нем. Однако важно понимать условность и потенциальную изменчивость диагностических формулировок, они периодически обсуждаются и пересматриваются даже в медицине, например, при переизданиях американского Диагностического и статистического руководства (DSM) и Международной классификации болезней (МКБ).
Так, диагноз посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) включен в последнюю на сегодняшний день 11-ю версию МКБ. Согласно МКБ, основой этого состояния обязательно является какое-то травмирующее воздействие. Без внешнего события, так называемого стрессора, травмы, по определению, нет. Однако, такой подход приводит к проблемам, поскольку при попытке определить травму обычно пытаются уточнить, какие конкретно факторы ее вызывают. И оказывается, что эти факторы могут быть очень разными.
С другой стороны, говоря о травме, мы подразумеваем, скорее, ее последствия, а не событие, вызвавшее травму, поэтому классифицировать это явление по событию не кажется удачной и состоятельной идеей.
Даже сама история с появлением диагноза ПТСР неоднозначна, потому что это понятие изначально являлось в большей степени политической формулировкой, чем медицинской. Оно возникло после вьетнамской войны, т.е. намного позже появления концепции военного невроза, которую активно разрабатывали в периоды после первой и второй мировых войн. И понятие ПТСР было сформулировано не на основе тщательных исследований, а как результат политического давления группы, состоявшей из 2-х активистов-психиатров (Роберта Джея Лифтона и Хаима Шатана) и нескольких вьетнамских ветеранов, даже не имевших высшего образования.
Неудивительно, что все формулировки, касающиеся посттравматических состояний, если убрать из них сам травматический фактор, могут охватываться другими диагностическими категориями, и концепция ПТСР как уникального явления рассыпается на глазах. В 2016 году вышла книга Фреда Альфорда, в которой он предложил пересмотреть понятие травмы, используя социальную и культурную точки зрения [Alford, 2016]. Он также описал ПТСР как культурно привязанную концепцию и пришел к выводу, что его история не научна.
Существует очень много разных представлений о травме, и в обозначенном нами сейчас пространстве игры я предлагаю посмотреть на них как на пазлы, которые можно использовать для складывания новых картин.
Последствия травмирующего воздействия переживаются людьми по-разному, и это зависит от культуры, в которую погружены люди. Поэтому описания, подходящие одним культурам, часто не подходят другим.
Например, в 2004 г на Юго-Восточную Азию обрушилось огромное цунами, в результате чего погибло четверть миллиона населения, что, несомненно, стало серьезной потерей для страны и травмировало людей.
После трагедии для оказания помощи туда сразу же устремились спасатели, психологи и другие люди помогающих профессий. Сохранились отчеты со Шри-Ланки, на основании которых можно сделать вывод, что у людей, ставших свидетелями этого бедствия, не наблюдалось типичных посттравматических реакций. Несомненно, что люди страдали, но симптомы, описанные в диагностических руководствах, у них отсутствовали.
При этом психологи, объясняя происходящее, игнорировали отличия реальных человеческих реакций от описанных в руководствах, или интерпретировали их по-своему.
Одна из главных неудач в дискурсе о травме – это выбор термина и его происхождение, т.к. для описания психических процессов был взят медицинский термин, означающий физическую рану или повреждение.
Так, в выступлении по радио один из специалистов-психологов рассказывал, что школьники, ставшие свидетелями гибели родственников, были озабочены не горем по этому поводу, а тем, что у них могут возникнуть проблемы в школе, и что придется как-то восстанавливать школьную деятельность. Он видел в такой озабоченности яркий пример отрицания, диссоциации, травмы.
Подобные объяснения наблюдались повсеместно, но никто не ставил вопрос, верен ли сам подход, и можно ли рассматривать с одной и той же колокольни людей разных культур.
Посттравматические реакции, несомненно, были и на Шри-Ланке, только другие, не флешбэки, как у вьетнамских ветеранов, а телесные реакции, такие как соматизация, боль.
У человека существует масса разных реакций, связанных с травматическими явлениями, но они могут не попадать в стандарты, транслируемые руководствами и Всемирной организацией здравоохранения.
К счастью, психоаналитики не связаны диагностическими стандартами и категориями. Наша задача – видеть то, что может лежать в основе этих процессов, их динамику, а также культурно и социально обусловленные вариации.
Сложно дать конкретное определение понятию травмы. Этот термин не определить буквалистски, так же, как и любовь. Подобные понятия устроены прототипически, и в своих конкретных воплощениях у разных индивидов могут не то, чтобы не совпадать, а даже не пересекаться. Но можно уверенно утверждать, что травма – это всегда потеря смысла, а смысл нам изначально обеспечивается другими, извне. Для младенца источником смыслов являются родители. Для взрослого человека – общество, социальные связи и источники. Поэтому травма – это социальное и культурное явление, к такому же выводу пришел и Фред Альфорд.
Отсюда следует и встроенность самого явления травмы в социальные и культурные реалии, и полезнее будет не сводить травму к каким-то конкретным проявлениям, что, в общем-то, и невозможно, а видеть в ней общий глобальный механизм, каждый раз принимающий разные формы, которые люди, стремящиеся к конкретности и четким диагнозам, пытаются уловить и зафиксировать. Однако, представляется более полезным понимать и описывать травму универсально, на более общем и абстрактном уровне, чем это обычно делается.
Травматизм зависит от бэкграунда, от естественной среды существования.
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ К ТРАВМЕ
Пытаясь понять такое явление как психическая травма, я предлагаю обратить внимание на смежные с психоанализом дисциплины, в частности на эволюционную психологию, изучающую формирование основ поведения. Хотя обращение к эволюционным моделям и является выходом за пределы психоанализа, это полезно. Во-первых, это позволяет позиционировать сам психоанализ, т.к. помещает его в определенный контекст – изнутри, без подходящего контекста, нельзя описать никакое явление. А во-вторых, дает возможность для обогащения идеями.
В психоанализе причины серьезных психопатологий, таких, как психиатрические, психосоматические расстройства и симптомы, принято видеть в нарушениях развития на ранних стадиях, начиная с внутриутробного периода и младенчества.
Например, с позиции современного психоанализа депрессию условно можно объяснить через раннюю потерю фигуры привязанности, что наиболее ярко представлено в работах Дж. Боулби. На уровне физиологии – через синдром дефицита «гормона счастья» серотонина, на генетическом уровне – через генетическое нарушение, снижающее синтез и передачу нейромедиаторов, в частности серотонина.
Однако для полного понимания темы этого недостаточно, кроме онтогенеза и физиологии стоит рассмотреть, как разные способы переживания и поведения возникли в филогенезе, и как адаптационные процессы формировались на уровне вида. Эволюционный взгляд расширяет общее понимание и дает возможность рассмотреть проблему с еще одной точки зрения, адаптационной.
Иногда симптомы служат адаптации. К примеру, страх часто помогает особи скрыться от опасности или встретиться с ней, готовит организм к реакции «бей или беги», а вот патологическая тревожность уже не так адаптивна, но и она, благодаря постоянному поддержанию бдительности, позволяет особи выживать, хотя и лишает ее многих возможностей. Тревожная особь в плане выживания будет иметь преимущество перед бесстрашной, начисто лишенной чувства опасности, т.к. бесстрашная быстро попадет в опасную ситуацию и погибнет. Другими словами, тревожность в чем-то адаптивна, а в чем-то дезадаптивна, и не всегда эту границу можно провести четко.
В общем, у дисфункций есть свои функции, и важно разобраться в функциях дисфункций.
Говоря о травме, мы подразумеваем, скорее, ее последствия, а не событие, вызвавшее травму, поэтому классифицировать это явление по событию не кажется удачной и состоятельной идеей.
В психоанализе эволюционными моделями пользовался еще З. Фрейд, хотя и в небольшой степени, т.к., даже уважая Ч. Дарвина как ученого, по своим убеждениям Фрейд все-таки был ламаркистом. Из психоаналитиков в большей мере использовал идеи Дарвина, пожалуй, Р. Лэнгс, основатель отношенческого (реляционного) психоанализа в Америке.
Последствия травмирующего воздействия переживаются людьми по-разному, и это зависит от культуры, в которую погружены люди. Поэтому описания, подходящие одним культурам, часто не подходят другим.
В настоящее время к эволюционным объяснениям разных явлений, в том числе психопатологий, прибегают гораздо чаще, чем раньше, ввиду эффективности этих моделей. К примеру, в 2014 и 2017 гг. отдельные выпуски международного психоаналитического журнала «Psychoanalytic Inquiry» полностью были посвящены эволюционным подходам.
Психопатологии рассматриваются эволюционным подходом через поиск их адаптивных основ. Например, тревожные расстройства связывают с адаптивной способностью отслеживать опасность. Человек развивает высокую чувствительность, чтобы повысить бдительность и защищенность.
Разные симптомы депрессии также могут быть рассмотрены эволюционно. Так, снижение энергии и апатия могут быть вызваны тем, что человек ставит перед собой труднодостижимые цели, в этом случае симптомы помогают ему сохранить силы для выживания и последующего продолжения рода. Симптомы подчинения, также наблюдающиеся при депрессии, полезны с эволюционной точки зрения, т.к. позволяют особи гасить агрессию соплеменников, тем самым повышая вероятность ее успешного приспособления и выживания.
Интересно также исследование психопатологий в связи с возрастающим разрывом между древними адаптивными приспособлениями и современным стилем жизни – психическое и биологическое развитие человека не успевает за развитием цивилизации (которое становится все интенсивнее). Например, относительно недавно появилось электричество, и организм человека еще не успел приспособиться к резким изменениям освещения, т.к. в природе их нет.
Адаптивные основы есть у любых психопатологий. Однако, когда разговор заходит о травме и сопутствующих ей явлениях, в эволюционной модели оказывается очень сложно найти для них адаптивные основы. Эта область еще слабо изучена.
Чуть позже я поделюсь своими размышлениями по поводу адаптивных основ травмы, а пока предлагаю обратиться к психоаналитическим взглядам на ее природу.
Психоанализ, как мы помним, начинался с травматической модели З. Фрейда и Й. Брейера, но З. Фрейд довольно быстро отказался от нее. Далее эту модель разрабатывал Ш. Ференци, но его идеи не нашли поддержки у коллег, в первую очередь у З. Фрейда. Развивать идеи Ш. Ференци продолжил М. Балинт. В наше время существует понимание, что травма распространена гораздо шире, чем думали во времена З. Фрейда, авторитет которого какое-то время и мешал признанию этого факта.
Можно уверенно утверждать, что травма – это всегда потеря смысла, а смысл нам изначально обеспечивается другими, извне.
В общем виде травму можно определить как перегрузку системы, когда некоторое внешнее или внутреннее влияние превышает возможность системы выдержать это влияние, что приводит к ее необратимому изменению и поломке.
Травма состоит их двух важных компонентов:
1-й компонент – это само влияние, приводящее к перегрузке, обычно его и называют травмой;
2-й компонент – это последствия влияния, посттравматическое состояние, устойчивое изменение в структуре, сопровождающееся снижением функциональности.
В клинической работе мы интересуемся 2-м компонентом.
С точки зрения психоанализа, ранняя детская травма обычно бывает связана с нарушением привязанности, как считал Боулби, и приводит либо к отчуждению индивида, либо к нарушению границ в поведении.
Травма во взрослом возрасте приводит к разным вариантам нарушения функционирования, среди которых наиболее распространены ПТСР и острое стрессовое расстройство.
Травма – это социальное и культурное явление.
При посттравматическом состоянии обычно описывают различные вторгающиеся симптомы: интрузивные воспоминания, флэшбэки (яркие повторные переживания события), травматические сновидения. Наблюдаются состояние дистресса, склонность к замиранию, нарушение сердечного ритма, неконтролируемое возбуждение, сужение внимания, нарушения сна, галлюцинации и псевдогаллюцинации. Мышление также нередко оказывается дезорганизованным. В эмоциональной сфере описывают переживание беспомощности и стыда, ангедонию (отсутствие возможности испытывать удовольствие), дисфорию (мрачное настроение), также тревожность, гипербдительность, реакции подчиненности, или, наоборот, недооценку риска.
Когда у травмированного человека возникает ощущение опасности, он демонстрирует реакции борьбы или бегства. Если же в реальности ни борьба, ни бегство невозможны, как, например, в ситуациях детского насилия, возникает диссоциация.
В эволюционном подходе, как уже было сказано выше, посттравматические состояния почти не изучены. В общем виде ПТСР рассматривается как стратегия избегания и защиты от опасности, стремление скрыться, сделаться незаметным и хотя бы как-то сохранить автономию.
Однако это объяснение сомнительно.
Некоторые проявления посттравматических состояний вообще не принимаются к сведению, например, соматизация, ангедония. Если смотреть с точки зрения перспективы продолжения рода, данные симптомы, стабильно сохраняясь, почти не оставляют такой особи шансов на репродукцию.
МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКАЯ ТРАВМА
Особенный интерес представляют случаи межпоколенческой травмы. Их описания встречаются уже у З. Фрейда и Ш. Ференци, более глубоко они изучались венгерскими психоаналитиками, в частности Николя Абрахамом, предложившим понятие фантома. В выступлении на Зимней Школе ЕКПП в феврале 2017 г. Жислен Спикер описывала травму как фантом – скелет в шкафу, передающийся из поколения в поколение.
Мощный толчок в развитии теория межпоколенческой травмы получила в 80-90 гг., когда началась серьезная работа с жертвами Холокоста. Были исследованы и описаны механизмы передачи травмы. В результате этой работы само понятие межпоколенческой травмы, отчасти из политических соображений, стало искусственно связываться с Холокостом.
Особенность межпоколенческой травмы в том, что при ее передаче отсутствует 1-й компонент, включающий воздействие, приводящее к перегрузке и поломке системы, т.е. передается только само посттравматическое состояние – 2-й компонент.
С эволюционной точки зрения такая передача не кажется оправданной, однако явление это широко распространено и универсально.
В сборнике «Потерянное в передаче», вышедшем под редакцией Джерарда Фромма и изданном по результатам двухлетнего семинара, проходившего в институте Эриксона и посвященного межпоколенческой травме, неоднократно звучит одно интересное наблюдение. При работе с разрешением межпоколенческой травмы у ее «носителя», получившего такое «травматическое наследство», часто присутствует ощущение миссии, императива, настоятельной необходимости справиться с травмой и вернуть потерянную интеграцию (Fromm, 2012).
ЭВОЛЮЦИОННЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ТРАВМЫ
Нередко травма и посттравматическое состояние сломленности приводят человека к деградации. Чувствуя беспомощность, недоверие, испытывая трудности в отношениях и переживая общее снижение энергичности и функциональности, человек с трудом выживает, на продолжение рода у него просто не остается сил, поэтому с эволюционной точки зрения такое явление как травма на первый взгляд выглядит бессмысленным.
Однако посттравматические состояния и передача травмы наблюдаются во всех культурах, это универсальное и широко распространенное явление, значит, оно тоже должно иметь прочные корни в адаптационных и эволюционных процессах, просто нужно увидеть и понять их.
В психоанализе причины серьезных психопатологий, таких, как психиатрические, психосоматические расстройства и симптомы, принято видеть в нарушениях развития на ранних стадиях, начиная с внутриутробного периода и младенчества.
С одной стороны, травма выглядит очень индивидуальным явлением, потому что человек переживает ее лично. Отстраняясь от других и выпадая из социальной реальности, травмированный человек живет в своем, изолированном мире.
Если случается групповая травма или даже травма целого народа, как, например, произошло с евреями, такие группы создают свои, особые реальности.
Я думаю, что эволюционное объяснение травмы нужно искать не в плоскости индивидуального, а в плоскости социального.
Эволюционная психология пытается рассматривать различные явления, опираясь на близость человека к животному миру. Так же поступал и З. Фрейд. Однако стоит помнить, что человек является особым животным, т.к. его процессы и новоприобретенные качества, а именно ум и социальность, отличают его от животных и дают ему серьезные преимущества в адаптации.
Можно сказать, что они позволили людям завоевать планету – другие виды не могут конкурировать с человеком, пока это не удается даже микроорганизмам. Несмотря на все имеющиеся проблемы, человечество все равно развивается, и темпы его развития возрастают по экспоненте (т.е. наблюдается все большее ускорение).
Эволюционный взгляд расширяет общее понимание и дает возможность рассмотреть проблему с еще одной точки зрения, адаптационной.
Когда-то на Земле обитало два вида людей: неандертальцы и кроманьонцы. Есть данные, что неандертальцы были умнее и сильнее кроманьонцев, культура появилась у них раньше и развивалась быстрее, но кроманьонцы оказались более социальными, что дало им преимущество в естественном отборе и позволило стать нашими предками. Другие человеческие виды также потерпели поражение в конкурентной борьбе. Поэтому можно предположить, что разгадка распространенности травмы находится не в рассмотрении индивидуальных процессов, а в рассмотрении процессов социальных, в том числе группового и популяционного отбора.
Травмированный индивид изолируется, выпадает из социума, его поведение наименее пригодно для репродукции из-за потери социальных связей, интереса к жизни, пугающего поведения (например, во время флешбэков). Получается, что механизм травмы не способствует индивидуальному выживанию, но оказывается адаптивным для популяции, социума. Другими словами, травма – это социальный процесс, социальное явление, которое кажется неадаптивным только на первый взгляд.
Травма представляет собой особенный тип знания, «знание как катастрофу».
Она позволяет объять и зафиксировать страдание, которое оказывается для индивида настолько разрушительным, что он ломается. У менее социальных видов, какими являются большинство животных, в подобной ситуации особь обычно сопротивляется до конца, пока не погибает. Но социальному виду нельзя терять подобную информацию, т.к. он выживает благодаря коллективному приспособлению. Очевидно, что на протяжении эволюции должен был возникнуть механизм, позволяющий индивиду выживать даже поломанным, чтобы доносить до социума важную информацию, при этом личный репродуктивный успех такого индивида эволюционно не важен, поврежденный индивид, выживая, выполняет задачу, важную для социума. И именно человек как вид приобрел в рамках развития такой механизм, когда такой индивид становится своеобразным информатором, носителем травмы. Только информирует он о том, о чем нельзя быть информированным, что не входит в представления и возможности человеческого понимания, находится за пределами постижимого. Потому что происходящее при травме невозможно, это бы просто убило неприспособленную особь, не имеющую такого встроенного механизма.
Если же говорить о травмированных индивидах самих по себе, социуму, по большому счету, нет до них дела. Гуманистические рассуждения на тему травмы, скорее, привносятся искусственно и уводят от реального понимания процесса. Например, Сандра Блум опубликовала серию статей о травме, где она также говорит о важности травмы для социума, но, с моей точки зрения, рассуждения в гуманистическом ключе несколько увели ее в сторону от окончательного понимания темы (Bloom, 2010, 2011).
УРОВНИ ТРАВМЫ
Для дальнейшего осмысления травмы представляется полезным обратиться к идеям Д. В. Винникотта, который, говоря об истинном Я, описывал коммуникацию, которая не является коммуникацией. Глубинное, истинное Я не коммуницирует. Винникотт писал о травме как о правде, которая ранит, которая не совместима с существованием.
Можно выделить два уровня травмы: на первом порождаются симптомы, на втором происходит диссоциация; они отличаются по степени повреждения.
1. На первом уровне растет транс индивида (сужение внимания) на опасной ситуации. Характерны пристальное наблюдение, гипербдительность, возникают реакции «бей или беги», агрессивность или избегание. Подобные реакции наблюдаются и у животных. А вот человеку их не всегда хватает для обеспечения защиты, например, они не работают в случае травмы детского насилия, т.к. агрессию реализовать невозможно, а бежать некуда.
2. В этом случае через диссоциацию происходит переход на второй уровень.
Диссоциация дает возможность покинуть непереносимую ситуацию, но этот процесс сопровождается нарастанием дисфункциональности.
На первом уровне, когда повышаются тревожность и бдительность, человек еще не сломлен, такие проявления есть и в животном мире, и в целом они адаптивны.
В настоящее время к эволюционным объяснениям разных явлений, в том числе психопатологий, прибегают гораздо чаще, чем раньше, ввиду эффективности этих моделей.
Но в какой-то момент компенсаторные механизмы не выдерживают и происходит диссоциация, и, хотя при этом индивид может выжить, он «ломается», что сопровождается потерей смысла. Смысл оказывается невозможно восстановить изнутри, его можно получить только извне, из социума.
Если младенец не может сам породить смысл, взрослый уже способен на это, но не в случае серьезной травмы.
Винникотт описывает возникающее при травме нарушение как психосоматическое разделение. Ум (mind) берет на себя управление и контроль за окружением, а соматические аспекты отделяются и начинают выполнять работу психики.
ПРОЦЕСС ДИССОЦИАЦИИ
Развитие человека строится на диссоциации и способности к абстрагированию, что всегда подразумевает отрицание чего-то. Эта способность диссоциировать делает людей уязвимыми к травме, но, с другой стороны, она же дает возможность обществу столкнуться с травмой и переработать поломку.
Диссоциация – это чисто человеческий процесс. Животные тоже демонстрируют различные последствия травмы, но у них не наблюдается диссоциации.
На диссоциации строится процесс мышления, сознания. Люди постоянно искажают реальность, поскольку мышление, обращаясь к уровню абстракции, уводит человека от реальности непосредственного опыта. Эти процессы важны для решения сложных задач, и недоступны животным.
К примеру, человек может вести машину и одновременно разговаривать, вспоминать о чем-то, размышлять, прокручивать в голове разные ситуации, фантазировать. При этом какая-то часть внимания остается направленной на наблюдение за дорогой.
Также диссоциация обычно создает состояние транса, «обрезает» часть восприятия, что приводит к сужению сознания, а это важно для эффективного управления социальными видами – за счет способности людей к диссоциации управлять ими несложно.
В целом можно обозначить диссоциацию как инструмент выживания, присущий исключительно человеку и дающий ему определенные преимущества. С другой стороны, диссоциация стандартно используется и как инструмент защиты. При перегрузке психики диссоциация просто выключает часть функциональности.
На первом уровне травмы можно найти индивидуальную адаптационную ценность – здесь традиционные эволюционные объяснения работают. Индивиду на этом этапе еще хочется спастись, ему можно помочь, его выживание в целом возможно.
На уровне диссоциации личное выживание для индивида утрачивает смысл, из-за сломленности у него нет энергии на борьбу, ему не хочется спасаться.
Психопатологии рассматриваются эволюционным подходом через поиск их адаптивных основ.
Выживание травмированного индивида несет смысл не для индивида, а для социума, поскольку прямо влияет на выживание социума. Травма служит социуму сигналом. Она является парадоксом, «неслышимым криком» – криком о помощи, как говорит о ней С. Блум. И хотя индивид на этом этапе уже сломан, находится в регрессе и не имеет никакой надежды на помощь, помочь ему нужно, и дело здесь не в гуманизме. В этой помощи нуждается социум. Если бы травмированный индивид просто погиб – не было бы пользы для общества.
«Неслышимый крик» призван предостеречь группу от серьезной опасности, которую невозможно описать и передать прямо. Она настолько мощная, что приводит к поломке воспринимающей системы. Индивид не может точно сказать, куда не надо ходить и что не нужно делать, и не может рассказать, что произошло. Его воспринимающая система была сломана травмой. Поэтому социум должен «догадаться» об опасности по косвенным признакам.
Передача информации о том, что случилось, не происходит напрямую, поскольку угрожает системе восприятия других людей.
В результате такого парадоксального способа передачи информация одновременно блокируется и передается. Это происходит через контакт с «дырой», «отсутствием», через «коммуникацию в отсутствии коммуникации». И эта «дыра» не является неудачей индивида. Она является частью механизма выживания социума.
В общем виде травму можно определить как перегрузку системы, когда некоторое внешнее или внутреннее влияние превышает возможность системы выдержать это влияние, что приводит к ее необратимому изменению и поломке.
С одной стороны, знание о травме является необходимостью для выживания общества, имеет место внутренний императив – справиться с травмой, с другой стороны, это вызывает у социума понятное сопротивление. Поэтому коммуникация с травмой со стороны социума всегда вынужденная. При этом общество действует избирательно, поскольку для него важна не каждая травма. К примеру, у некоторых индивидов «хрупкое Я» (Pao, 1979), так, латентные психотики уязвимы даже для незначительных стимулов, но их травмы не представляют для общества особого интереса. Для общества важна переработка тех травм, которые могли бы нанести серьезное повреждение среднему индивиду, от которых обществу в любом случае никуда не деться.
Можно утверждать, что межпоколенческая травма является встроенным базовым механизмом передачи информации об опасности. Она должна передаваться до того момента, пока кому-то не удастся справиться с ней, чтобы знание не оказалось потеряно.
В целом можно говорить, что в людях заложена одновременная возможность травмы и выживания в ней. Это нужно для того, чтобы общество могло использовать таких людей. Травмированный индивид выживает не для себя, а для других.
Такой механизм передачи информации об опасности как травма возможен только для видов с продолжительной жизнью (Boonstra, 2013).
Развитие социума приводит к нарастанию травматизации. Говард Стейн показывает, что передача травмы происходит всегда и везде, а не только между поколениями, например, травма может передаваться от начальника к подчиненному (Stein, 2012). Главная задача – в итоге справиться с ней.
Как уже было сказано, травмированный индивид существенно регрессирует. Он может демонстрировать беспомощность, его состояние напоминает младенческое, что даже на уровне биологических процессов может вызывать у некоторых людей желание позаботиться, а не только сопротивление.
Если пользоваться понятиями Д.В. Винникотта, для травмированного человека, как и для младенца, будет целительна забота в рамках холдинга, а не воспитания (менеджмента).
Социальная поддержка может стать важным фактором излечения. Известно, например, что, если ребенок сразу же после травматического воздействия получает поддержку, последствий травмы не возникает (Lee, Martin, 1991).
Однако уже травмированный индивид не может полагаться на социум и доверять людям, это задача социума – проявить к нему интерес и заботу.
При травматическом регрессе индивид утрачивает связь с реальностью и смысл существования.
По Винникотту переживание реальности и смысла появляется у младенца не само по себе, а из взаимодействия с другими, с матерью в первую очередь, т.к. младенец сам не в состоянии породить смысл. Проводя аналогию травматического регресса с ранними стадиями развития по Винникотту, можно говорить, что травмированный индивид, как и младенец, сам не может выбраться из регресса и запустить интегрирующие процессы.
Расщепление на части может быть замечено и понято только другим, извне, но не изнутри. Движение к интеграции начинается снаружи, от других. Признаки диссоциации служат для других сигналом, что данный индивид нуждается в людях и смыслах, которые они могут обнаружить.
Жислен Спикер описывала травму как фантом – скелет в шкафу, передающийся из поколения в поколение.
Общество сопротивляется травме, оно должно отфильтровать те травмы, от которых не отвертеться и поэтому придется их интегрировать в любом случае, как, например, травму Холокоста. Случайное должно быть отсеяно, чтобы осталось только действительно важное. Конечно, невозможно воспринять все сразу, какие-то аспекты все равно останутся неохваченными, какие-то, возможно, будут восприняты позже.
Т.е. травма не существует как явление индивидуальной психологии, ее нельзя рассматривать отдельно от социума.
При работе с разрешением межпоколенческой травмы у ее «носителя», получившего такое «травматическое наследство», часто присутствует ощущение миссии, императива, настоятельной необходимости справиться с травмой и вернуть потерянную интеграцию
ТРАВМА КАК ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ ГРУПП
По данным исследований, травмированные люди, которые объединяются в группы и общаются между собой, как это делали вьетнамские ветераны, начинают чувствовать себя легче, причем эффект, наблюдаемый от такой работы, оценивается ими выше, чем от индивидуальной терапии (Alford, 2016).
Это происходит, поскольку совместно они порождают смысл. Но, с другой стороны, объединяясь вокруг травмы, они создают травмированное общество, обособленную от общества группу, иногда даже оппозиционную. По этому принципу и возникают общества, культуры и субкультуры, процесс их возникновения связан с переработкой травм. Однако остается вопрос, как травма, возникающая как индивидуальное явление, становится групповым процессом.
По Винникотту ребенок, рождаясь, находится в рамках холдинга матери, при этом мать находится в рамках холдинга отца, и вся эта семья находится в рамках холдинга общества.
Винникотт рассматривал травму в 2-х видах: как прорыв, вторжение в Я и как эрозию, распад Я в результате социальной болезни.
Истинное Я по Винникотту является неким процессом бытия, интегрирующим психику и соматику в общую целостность, когда младенец, благодаря поддержке матери, может позволить себе просто быть – не чувствовать переживание, а быть переживанием и опытом, что и дает ощущение живости, реальности, и обеспечивается сначала матерью, а в дальнейшем миром. Сущностное бытие Винникотт противопоставляет реагированию, считая последнее равносильным аннигиляции – подделываясь под другого, мы исчезаем сами. Травма разрывает бытийность, личную связность и протяженность существования и ведет к безумию, и индивид защитно использует свой ум, чтобы как-то сохранить бытийность. Поскольку на мать и на мир нельзя положиться, нужно самому контролировать этот процесс, иначе не будет уверенности в выживании, но этот способ нарушает единство психики и соматики и ведет к расколу, расщеплению.
Чувствуя беспомощность, недоверие, испытывая трудности в отношениях и переживая общее снижение энергичности и функциональности, человек с трудом выживает, на продолжение рода у него просто не остается сил, поэтому с эволюционной точки зрения такое явление как травма, на первый взгляд, выглядит бессмысленным.
Винникотт считал, что истинное, ядерное, центральное Я не коммуницирует, и что человеку одновременно свойственны два парадоксальных желания: желание общаться и сообщаться, быть связанным, и желание не быть обнаруженным – что означало бы оказаться захваченным и использованным. Общаться – значит рисковать, что тебя обнаружат, найдут, а значит ты можешь оказаться использованным другим. И как люди мы всегда находимся между этими крайностями: с одной стороны, изоляцией и субъективностью, способной потенциально обернуться полным психозом и с другой – социальным безумием, функциональностью и использованностью.
Стоит помнить, что истинное Я – это не какая-то структура, это процесс живости, спонтанности и непредсказуемости. Здоровое ложное Я, по Винникотту – это маски, которые мы носим. Истинное Я проявляется в них через спонтанный жест.
Во взаимодействии социума с травмой можно выделить объектный и субъектный полюса.
На объектном полюсе взаимодействия находятся культурные феномены и ритуалы, выработанные для интеграции травмы. Например, День Победы является ритуалом, в котором целые общества собираются вокруг травмы Великой Отечественной Войны для ее проживания. Сюда же можно отнести психоанализ в том варианте, как его задумывал З.Фрейд – как ритуал, управляемый избранными.
Субъектный полюс представлен индивидуальной психотерапией и подразумевает индивидуальную интеграцию травматических содержаний в клинической работе. Здесь присутствуют личный выбор клиента идти навстречу этим содержаниям и индивидуальная ответственность за него несмотря на то, что больше этот процесс нужен обществу.
Я думаю, что эволюционное объяснение травмы нужно искать не в плоскости индивидуального, а в плоскости социального.
В пространстве между этими двумя полюсами, объектным и субъектным, существует область, где мы можем быть известными, но не обнаруженными, где возможно сохранять свою субъективность и взаимодействовать творчески. Винникотт определял его как потенциальное, переходное пространство между фантазией и реальностью, собой и другими, в котором можно играть, порождать культуру, делать что-то как будто реальное, и тем самым быть реально продуктивными.
Здесь же расположена особенная область – область искусства. Настоящее искусство всегда привносит что-то новое, не обнаруженное ранее. Если смотреть с эволюционной точки зрения, искусство необходимо обществу для переработки травмы и выхода из нее, в этом заключается суть искусства и его польза для человечества (Bloom, 2010, 2011). Настоящее искусство – это всегда путь через непонятное, неизведанное, попытка расширить понимание и обрести смысл, который пока не был обнаружен, нащупать что-то, выходящее за рамки нарративной линии. Когда происходит обретение нового, эти смыслы еще туманны, нечетки. Новые течения сначала обычно вызывают отторжение в обществе, к ним очень осторожно относятся. Но в период своего становления они перерабатывают травму.
Можно предположить, что разгадка распространенности травмы находится не в рассмотрении индивидуальных процессов, а в рассмотрении процессов социальных, в том числе группового и популяционного отбора.
Также в континууме между объектным и субъектным полюсами можно расположить разные группы людей. Люди всегда объединяются в группы на основании общих травм, и нередко общим образом травмированная группа проявляет агрессию к другим.
Чем ближе группа расположена к объектному полюсу, тем меньше развития в ней происходит, и тем в большей степени она живет в своем изолированном мире. Подобные группы можно назвать «ритуальными».
Ближе к субъектному полюсу располагаются так называемые «группы-контейнеры» – они частично перерабатывают травму и развиваются.
Далее, еще ближе к субъектному полюсу, находятся «группы-трансформаторы», максимально эффективно перерабатывающие травму. Хотелось бы верить, что психоаналитические сообщества являются группами такого типа или стремятся ими стать.
ТРАВМА КАК ОТДЕЛЬНАЯ НЕИНТЕГРИРУЕМАЯ ЗОНА ОПЫТА
Для травматических процессов, наблюдающихся у вьетнамских ветеранов, жертв Холокоста и др., характерны состояния, возвращающие человека к тому, что когда-то он не смог объять и пережить, от флешбэков, когда он внезапно погружается в переживание момента из прошлого, как будто это происходит с ним сейчас, до состояний ступора. Сутью этих процессов всегда является некое отщепление и невозможность быть понятым.
Существует распространенное популярное представление, что травма – это то, что молчит, что не может быть озвучено, но оно не описывает полную картину. Например, если взять тех же жертв Холокоста, станет очевидным, что они рассказывают о пережитых событиях, и нередко делают это сложно, подробно, красочно, что, однако, никак не облегчает их состояния. Просто они не могут поверить в то, что произошедшее с ними в принципе возможно, и в то, что это все же случилось с ними. Другие не понимают их, и они сами не понимают, как другие могут такое понять. Произошедшее далеко не всегда оказывается доступно для переработки.
Основой травмы является дизъюнкция – разделение, разъединение, происходящее в разной степени: от вытеснения до расщепления и диссоциации. Опыт травмы оказывается несовместим с привычным переживанием себя, эти два переживания не интегрируются, и возникает вопрос, нужно ли их интегрировать и всегда ли это возможно.
Иногда травма коммуницирует, но все равно остается травмой. Важно научиться жить в этих разных зонах опыта, попеременно использовать их. Целостность, как идеология, работает не всегда.
Для человека травма всегда является потерей, для социума – приобретением. Травма разрушает внутренний мир человека, внутренние смыслы, и часто переходит в отыгрывание или в соматические процессы.
Винникотт пишет, что ребенок в какой-то момент начинает понимать свою зависимость от матери, это происходит на стадии, когда он становится отдельным от нее. Но зависимость от матери – изощренная и непростая для понимания информация, как и наша зависимость от мира. Даже взрослые часто недопонимают степень этой зависимости и пытаются сохранить всемогущество в своих представлениях, веря в поддержку мира, тогда как истина мира и его возможности влияния травмируют нас. Реальность травмирует, об этом говорил еще Фрейд, он и формирование Эго рассматривал как выстраивание защитного буфера от травмирующей реальности.
Можно рассматривать социум как общий заговор, как попытку сделать мир более безопасным, чем он есть на самом деле, с отрицанием и ритуализацией таких непростых для переживания явлений как старость, болезнь, смерть. Поддержание чувства безопасности – это функция общества, как и поддержание некоторой инфантильности людей. Мать и отец постепенно снимают холдинг, а общество всегда поддерживает определенный уровень холдинга. И когда вдруг на нас обрушивается нечто несовместимое с привычным ощущением мира – люди, сжигаемые в печах, цунами – это и есть травмирующая правда реальности.
Мы используем защиты, например, проективную идентификацию, разделяем общество на разные группы, чтобы чувствовать себя в мире вернее, надежнее. Каждая группа и группировка создает свои смыслы, по-своему искажая реальность, чтобы дать своим участникам смысловую поддержку. Идея глобализации так и остается нереализованной. Людей много, у них разные травмы, жизнь разнообразна.
Второй вид травмы, о котором говорил Винникотт – стирание, эрозия, распад Я как социальная болезнь – наблюдается в тех культурах, которые не оставляют возможности для своих членов присваивать и использовать культуру и идеологию, когда культура теряет качество социального пространства и становится травматической, как, например, бывает у вымирающих народов (в том числе, в результате ассимиляции), культура которых не может их поддержать: американских индейцев, северных народов (хантов, например), тасманийцев.
Также Винникотт описывал субъективные и объективные объекты. Под субъективным объектом подразумевается нечто, что, будучи объектом внешнего мира, для человека нагружено смыслом и в каком-то плане является его частью, тогда как объективные объекты воспринимаются человеком как внешние, не связанные с ним. Винникотт понимал травму как вторжение объективных объектов.
Мы наделяем мир субъективным переживанием, и если теряем его, это приводит к психологической смерти, т.к. мы не можем жить в мире объективных объектов, в этом случае мир становится слишком реальным, внешним и чуждым, утрачивается контакт с ним.
Травма – это социальный процесс, социальное явление, которое кажется неадаптивным только на первый взгляд.
Культура создается в потенциальном пространстве субъективными объектами и переходным опытом, а травма нарушает способность создавать. Если бы мы могли что-то создавать из травмы – мы создали бы травматическое общество, пытающееся переработать травму. Смысл всегда бывает связан с субъективными объектами.
Часть стресса этого мира берет на себя общество, это преимущество социального вида, получаемое ценой личной, индивидуальной уязвимости, которая выступает платой за организацию социальности. Травма – это часть процесса социализации. Культура также выполняет роль второй кожи, того, что защищает нас, пока не возникает слишком серьезное повреждение. Травмированные люди образуют группы, чтобы обрести возможность создать свой смысл и найти переходный опыт между травмой и социумом, отделяющий их от социума. На основании переходного опыта они создают свою культуру.
Так образуются все группы, так появился и психоанализ. Он был создан З.Фрейдом как средство разрешения травмы для евреев, потерявших свою культуру и пытающихся интегрироваться в европейское общество, с идеями глобализации, манипуляции социумом и систематизацией жизни. Потеря иудейского бога обернулась для Фрейда отношением к бессознательному как к богу, с которым можно договариваться.
При изучении травмы Холокоста и страданий людей, выживших в концлагерях, было установлено, что эти люди живут двойной жизнью. В описаниях свидетелей происходившего тогда часто используются такие выражения как двойное существование, два мира, другой мир, две разные планеты, шизофреническое разделение (Kraft, 2002; Alford, 2016).
Например, во время просмотра видеозаписи, которую женщина сделала для своей дочери, дочь сказала ей: «Мама, тебе должно быть так грустно, но, когда я вижу эту запись, у меня возникает впечатление, что это как будто происходит с другим человеком; в какой-то момент я присутствую здесь для тебя, а в какой-то момент ты думаешь, что говоришь с кем-то другим и как будто рассказываешь ему чью-то чужую историю» (Alford, 2016, 55).
Это один из типичных примеров, в которых проявляется деперсонализация, дереализация, когда люди описывают себя как призрак, как душу, не привязанную к телу.
Также показателен эпизод, где женщина рассказывает о своей жизни с воспоминаниями об Аушвице (Освенциме): «Он присутствует здесь, неизменяемый, завернутый в кожу воспоминаний, непроницаемую кожу, которая изолирует его от его настоящего Я. В отличии от кожи змеи эта кожа памяти не обновляется. И увы, я часто боюсь, что она состарится, треснет, и лагерь опять на меня набросится. Я живу в двойном бытии. Аушвицевский двойник не беспокоит меня, не мешает моей жизни, будто бы это было вообще не со мной, но без этого расщепления я не была бы способна выжить» (Delbo, 2001, 2-3).
Травма представляет собой особенный тип знания, «знание как катастрофу».
Раздвоение продолжается, но всегда под угрозой возвращения Я, которое умерло в Аушвице. И это возвращение, скорее, является желанием, чтобы Я можно было похоронить, забыть, чего на самом деле не происходит, и в таких случаях всегда наблюдается раздвоение.
Интересно, что такого рода раздвоение, диссоциация всегда присутствуют при любых воспоминаниях, т.к. одновременно мы и пребываем здесь, в настоящем, и обращаемся к прошлому. Но травматическая разделенность отличается от обычной. Травматическая память, в отличие от нетравматической, глубинная, она основана на телесных процессах, ощущениях и эмоциях, на сырых образах, часто визуальных, иногда даже выраженных в галлюцинациях. Существуют воспоминания, выраженные в словах и описанные вполне подробно, но и они все равно остаются отделенными от остального, нетравматического опыта.
И этот процесс разделения характерен не только для травмы, ведь любой непережитый нами опыт может предстать в виде внутреннего двойника, содержащего непринятые чувства и т.п. Даже когда мы работаем не с травмированными людьми, мы тоже позволяем им пережить и присвоить этот опыт, сделав его частью прошлого, это довольно частое явление в психотерапии.
В повседневной жизни мы задействуем те же процессы, базирующиеся на способности нашей психики разделяться, диссоциироваться, вытеснять что-то и т.д, разница только в масштабах. В жизни всегда есть какие-то нарушения, подобные травматическим, можно определить их как микротравмы, они не приводят к злокачественной диссоциации и задействуют менее грубые защиты, например, изоляцию чувств, вины и пр. Эти микронарушения всегда являются отклонениями от генеральной нарративной линии нашей истории, нашего представления о себе.
Смысл оказывается невозможно восстановить изнутри, его можно получить только извне, из социума.
Способность интегрироваться и выстраивать определенное представление о себе присуща нашей психике, подобное представление редко бывает простым и линейным, скорее, его можно рассматривать как комплекс представлений. И то, что укладывается в него, воспринимается человеком как его идентичность, личная мифология, а то, что с ним не совмещается, диссоциируется, и может быть замаркировано как травма.
В основе этой генеральной нарративной линии лежит чувство бытия по Винникотту.
Микротравмы отличаются от макротравм тем, что они не оказывают существенного влияния на функционирование, их можно контролировать через усиление защитных маневров, например, еще интенсивнее подавлять вину, стыд, гнев.
В макротравмах области, не совместимые с генеральной линией, всегда кардинально важны, они содержат в себе ключевые ресурсы и аспекты функционирования, поэтому не могут быть отброшены безболезненно, их потеря сужает функционал, человек теряет важные возможности, перестает быть социально полезным и вовлеченным, страдает от соматических расстройств и кошмарных сновидений, а в какие-то моменты, будучи осаждаем флешбэками, начинает вести себя социально неадекватно.
Можно обозначить диссоциацию как инструмент выживания, присущий исключительно человеку и дающий ему определенные преимущества.
Степень травматизации определяется не силой воздействия и уязвимостью личности, как принято считать, и даже также не абстрактной поддержкой, которую человек может получить от окружающих. Все это работает, но только в связи с уникальными особенностями личности, во многом обусловленными культурой, и эти особенности прямо влияют на то, как будет воспринята травма, и в каких проявится симптомах.
На Шри-Ланке травма, связанная с последствиями цунами, воспринималась как нарушение возможности выполнять свою социальную роль, поскольку в данной культуре именно этот аспект предполагает особую уязвимость, поэтому последствия травмы проявились не через флешбэки, как у вьетнамских ветеранов, а через повышенную обеспокоенность своими социальными обязанностями.
Травматизм зависит от бэкграунда, от естественной среды существования.
Обращаясь к периоду существования СССР, также можно заметить явно выраженные признаки и последствия травмы, так, в СССР практически все жили двойной жизнью – было социальное лицо, фигура и одновременное понимание того, что на самом деле жизнь совсем не такая, как ее пытаются представить, о чем люди шепотом говорили на кухнях.
Общество выстраивалось вокруг травматических процессов, и по своей сути, хотя и не по силе, они не отличались от раздвоения выживших в Холокосте.
Любая идеология, группа является следствием травмы. Травма – основа социообразования и социального обучения. Просто, когда общество уже организовано, мы не рассматриваем его как травматическое, потому что в процессе его становления происходит переработка травмы.
По мере развития общества травматизация нарастает, травм становится все больше, и люди нуждаются в специфическом холдинге для жизни.
Один из путей выхода из травмы – обретение смысла, по крайней мере, это важно для межпоколенческой травмы. Смысл и разрешение могут быть найдены в любом поколении.
С одной стороны, социальность является существенной частью психики людей, она встроена в человека как часть биологического вида, с другой стороны, она же определяет травматизм. Когда мы говорим об исцелении травмы, само это понятие предполагает целостность, делание чего-то целым. Этот процесс связан с интеграцией.
Любой, даже самый маленький социум поддерживает базовую идеологию, которая объединяет его. В обществе носителями идеологии обычно являются национальные, экономические, религиозные группы. Нарративная линия поддерживает хотя бы видимость целостности, что важно для существования.
В психотерапии тоже постоянно говорят об интеграции. Этот подход заманчив, он во многом соответствует нашей природе, подразумевает способность объединяться. Но, пожалуй, интегративные модели не всегда эффективны, и важно признать, что травма является оборотной стороной интеграции, и она столь же необходима для выживания социального вида.
Возможно, выход может быть найден в принятии многообразия без попыток подчинения генеральной линии, хотя это пока не выглядит реалистичным.
Из религиозных и философских течений наиболее близко к такому варианту подошли буддизм и индуизм, во многом благодаря своей открытости, но они мало помогают восточным странам справляться с травматизмом. Христианство и ислам менее открыты, и тоже не помогают справляться с травмой. Они больше настаивают на генеральной линии, особенно ислам. Иудаизм как религия интересен тем, что в условиях травмы помог евреям выжить и сохранить национальную идентичность. Плюрализм мнений также имеет свою негативную оборотную сторону. Например, в психотерапии нередко он оборачивается непрофессионализмом. Можно десятилетиями работать с клиентами, не оказывая помощи, и рационализировать это с помощью идеологии.
Выживание травмированного индивида несет смысл не для индивида, а для социума, поскольку прямо влияет на выживание социума. Травма служит социуму сигналом. Она является парадоксом, «неслышимым криком» – криком о помощи.
Я предполагаю, что в ситуации с травмой важна не интеграция (реально она не всегда и возможна), а параллельное сосуществование разных областей опыта с налаженными взаимосвязями, взаимодействие с разными аспектами существования, и переход от одной позиции к другой, переключение между ними. Вероятно, выход в поиске возможности жить с травмой, в получении доступа к ресурсам, к творчеству, к живости. Как, например, в случае множественной личности важно не интегрировать все личности в одну, а наладить между ними взаимодействие. Иногда идеология интеграции может быть ограничивающей.
Согласно одной из точек зрения, раздвоение происходит одновременно с потерей ценностей и человеческого смысла. Это хорошо иллюстрирует фрагмент из рассказа Примо Леви, когда герой, мучаясь от жажды в концентрационном лагере, пытается лизать кусочек льда, охранник выбивает лед у него из рук, и на растерянный вопрос: «Почему?» грубо отвечает: «Нипочему» (Alford, 2016, 58). Единственный ответ заключается в садизме охранника, что несовместимо с базовыми человеческими ценностями и вызывает чувство абсурда.
В другом варианте рассмотрения раздвоение предстает как бесконечный, непрерывный траур с невозможностью перейти на депрессивную позицию.
Альфорд критикует Лифтона за описание травматического процесса раздвоения у нацистских врачей, в собственной семье придерживающихся принципов гуманизма, а к лагерным узникам относящихся как к кускам мяса (Alford, 2016). Но травматический механизм действительно один и тот же, просто врачи оказались подвержены раздвоению в лагере, а узники – после освобождения.
Один из путей выхода из травмы – обретение смысла, по крайней мере, это важно для межпоколенческой травмы. Смысл и разрешение могут быть найдены в любом поколении. Человеку важно получить субъективно убедительный смысл.
Интересную концепцию предложили венгерские аналитики Николя Абрахам и Мария Торок, они описывали фантом – призрак – то, что передается из поколения в поколение (Abraham, Torok, 1994).
Можно рассмотреть травму через концепцию Боулби как разрушение привязанности. Ребенку важно соучаствовать в психике родителей, это определяет его. И когда в опыте соучастия возникает неконтактная зона родителя, которую ребенок не может ни понять, ни ощутить, поскольку это что-то, невозможное для проживания, не имеющее смысла, он как будто натыкается на «черную дыру» в психике родителя, наследственную зону травмы, и перенимает ее – так происходит прямая передача травматических процессов. По Боулби паттерны привязанности достаточно устойчивы. Ребенок усваивает способы обращения с ним как внутренние рабочие модели, эти способы во многом зависят от поведения и состояния родителей. Но люди могут со временем изменить стили привязанности в результате негативного травматического опыта.
Линдеманн в 1944 г., когда еще не было понятия посттравматической реакции, определял психологическую травму как прекращение человеческого взаимодействия, другими словами, называя внезапное нарушение системы привязанности у человека (de Zulueta, 2009).
С одной стороны, знание о травме является необходимостью для выживания общества, имеет место внутренний императив – справиться с травмой, с другой стороны, это вызывает у социума понятное сопротивление.
При восприятии детьми родителей есть области переживания, в которых нет смысла, такие области можно соотнести с «черными дырами». Я вспоминаю одну свою клиентку, при всей любви и заботе в ее семье, и даже некоторой гиперопеке со стороны родителей, у ее отца бывали вспышки ярости, которые всегда оставались чужеродными и непонятными для нее. И этот аспект его поведения стал для нее травматическим компонентом, который долгое время оставался непрожитым и проявлялся в соматическом расстройстве.
Нужна не историческая, а психологическая правда, субъективный смысл переживания.
Травму потомка желательно рассматривать не только как повреждение, а еще и как попытку найти резонанс, связь с родителем, для этого переживание «черной дыры» даже может становиться более глубоким и интенсивным. Важно найти смысл, понять, что в свое время породило такое состояние родителя. Обычно это срабатывает, если оказывается для человека достаточно убедительным, т.к. нужна не историческая, а психологическая правда, субъективный смысл переживания. Это дает возможность понять и простить родителя, который в свое время не смог поддержать ребенка, и признать, что этого уже не произойдет. Тем самым и родителю отводится место в травме, в переживании, где у него не было места. Опасность этого способа может заключаться в потере баланса и подстройке под родителя, подчинении ему, его патологии. Для человека важно понять, найти смысл переживания, и при этом не уйти в иллюзию, в ожидание, что человек все-таки получит поддержку от родителя в зоне травмы, чего уже не случится, т.е. нужно понимать, что эта надежда безосновательна.
МОЙ ДРУГОЙ КАК ФУНКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ
Ключевой вопрос в понимании травмы и психики в целом – связь между индивидуальным и социальным, взаимодействие и баланс между ними. По аналогии с теорией корпускулярно-волнового дуализма в физике, когда свет воспринимается то, как частица, то, как волна, хотя он является и частицей, и волной одновременно, в человеке присутствует и индивидуальное, и социальное, и социум в целом выживает за счет выживания отдельных индивидов. В силу особенностей своей психики так же, как мы не можем воспринять свет и как частицу, и как волну, мы не всегда можем увидеть социальное и индивидуальное одновременно. И эффективным может оказаться смотреть попеременно, то так, то этак, не пытаясь совместить эти взгляды. Важна позиция, позволяющая найти баланс между индивидуальным и социальным, обеспечить их связь и взаимодействие, и нахождение этой позиции будет вести к повышению эффективности работы с травмой.
Межпоколенческая травма является встроенным базовым механизмом передачи информации об опасности. Она должна передаваться до того момента, пока кому-то не удастся справиться с ней, чтобы знание не оказалось потеряно.
Альфорд считает, что травма – это не реакция мозга, а реакция переживающего Я, сердце травмы, по его мнению, это ее субъективный смысл. Он ввёл понятие внутреннего другого, возникающего в отношениях и по сути являющегося отношением, и предположил, что травма возникает, когда внутренний другой разрушается (Alford, 2016). Альфорд отличал внутренний объект от Кохутовского self-объекта, т.к. внутренний другой, по его мнению, не является частью Я, а self-объект является, хотя это сомнительно. Я предполагаю, что описания Альфорда не во всем эффективны.
В людях заложена одновременная возможность травмы и выживания в ней. Это нужно для того, чтобы общество могло использовать таких людей. Травмированный индивид выживает не для себя, а для других.
Общая проблема понимания этих процессов в том, что мы пытаемся представить Я как некое место. Также у нас есть интернализованный другой, с которым мы как-то общаемся. Для схематического изображения это довольно удобно, но важно понимать, что Я – это не место, это способ и процесс существования и организации опыта, направленный на адаптацию. Этот процесс не может быть представлен как место, хотя мы все равно создаем какие-то схемы, картинки.
Я возникает во взаимодействии с другим. Другой – это не объект, не наша проекция, как, например, считал Фрейд, это тоже субъект, который существует реально и воспринимается нами именно как субъект со своими живыми реакциями. Мы не можем отказать другому в его субъективности, это не только психологически некомфортно, но и не полезно для отношений и их понимания. Другой возможен и полезен для нас именно в своей субъективности, мы создаемся другим и содержим его в виде диалектической связи.
Изначально младенец представляет собой какой-то потенциал. Другой отражает потенциал, наделяет его смыслами, придает значение и смысл спонтанным жестам, и это осмысление постепенно приводит к возникновению Я, взаимодействующего и резонирующего с другим, это взаимодействие тоже становится частью нашего Я.
Можно определить Я как комплекс, в котором другой тоже представлен, но это – не внутренний другой. Я называю его «мой другой» и понимаю его не как объект, а как способ связи с миром, способ отношений и осмысления мира.
Степень интернализованности, т.е. способ переживания моего другого как внутреннего, своего, или как внешнего, зависит от культуры. На Западе он больше внутренний, интернализованный, на него можно полагаться, опираться внутри себя, и потеря связи с ним приводит к типичным посттравматическим реакциям. А для Юго-Восточной Азии, например, мой другой больше внешний, он представлен реальным другим, и опора на него как на функцию связана с социальными взаимодействиями, поэтому при травматизации и возникает озабоченность внешними отношениями.
Способ рассмотрения травмы с использованием моего другого позволяет учитывать разницу культур, и подходит как западным культурам с их способом интернализации другого, так и восточным, с их вариантом опоры на социальные связи.
Травма всегда является нарушением связи с моим другим, при этом сам мой другой не разрушается, не теряется.
Макротравма разрушает эту связь, микротравма – нет, восстановление возможно своими силами, мы можем опереться на моего другого, использовать его, что сопоставимо с использованием собственной усвоенной альфа-функции. Поэтому разрушение связи с моим другим – это критерий психологической травмы. Связь с другим, определяющим меня – это и связь с собой, одного без другого не бывает, поэтому связь с собой тоже нарушается при макротравме.
Травмированный индивид, как и младенец, сам не может выбраться из регресса и запустить интегрирующие процессы.
Мой другой – не внутренний объект, не интроект, не фигура, это – функция, способ связи с субъективным миром. При травме связь с ним повреждается из-за несовместимости травмирующей ситуации со способом связи с миром, т.е. мой другой не может спасти меня в зоне травмы, смыслообразование здесь не работает.
Если родитель имеет нарушенную связь с моим другим, отношения с ним усваиваются ребенком как мой другой с уже заложенным в нем провалом, «черной дырой», дефектом смыслообразования.
В клинической работе важно стать достаточно значимым другим, попасть в резонанс с моим другим клиента, чтобы включиться в этот процесс, восстановить связь с содержанием опыта и помочь созданию смысла в зоне, где взаимодействие с моим другим нарушено, где происходит выпадение части опыта и потеря смысла. В этой зоне нет отражения нас другим. Основной смысл партнера в нашей жизни – не облегчать жизнь, не растить детей, партнер – это тот, кто отражает нас, кто свидетельствует о нашей жизни, и во взаимодействии с кем мы находим себя. Мы используем моего другого, а не реального другого, хотя в случае травмы нарушается и возможность использовать реального другого в качестве поддержки и отражения себя.
Симптомы травмы можно рассмотреть как попытки привлечь внимание реального другого, чтобы восстановить связь с моим другим, восстановить смысл. Например, когда ребенок кричит, переживая определенный дискомфорт, мать определяет это как чувство голода и кормит ребенка. Постепенно и он сам учится идентифицировать этот дискомфорт как голод.
Расщепление на части может быть замечено и понято только другим, извне, но не изнутри. Движение к интеграции начинается снаружи, от других. Признаки диссоциации служат для других сигналом, что данный индивид нуждается в людях и смыслах, которые они могут обнаружить.
Как ребенок обращается к матери, чтобы она переработала опыт, так и травмированный человек обращается к конкретным людям и обществу. И многие откажутся иметь с ним дело, т.к. в целом общество пытается избежать встречи с травмой, что позволяет отфильтровать действительно значимые травмы. Симптомы травмы у взрослого человека сопоставимы с плачем или потерей аппетита у ребенка, который так подает сигнал о нарушении и необходимости помощи, о стремлении обрести себя в зоне провала.
Если пытаться связывать индивидуальное и социальное, мы можем сказать, что социальность вида отражена в самом человеке – это понимание нас другими, это наша связь, совмещение с другими, в чем-то сопоставимое с эмпатией в понимании Кохута. Понимание другим является ключом к исцелению. Другой нас определяет и переопределяет, дает смысл.
Мой другой является фактором уязвимости к травме. Для восстановления связи с ним важна не любая поддержка, а та, которая совпадает с ощущением моего другого. Возможность такого попадания зависит и от возможностей другого, и от собственных особенностей, важны специфичность и субъективное ощущение, что другой тебя понимает, согласующееся с телесным функционированием. Мой другой существует в динамике, он не является чем-то застывшим, поэтому может меняться в процессе реального взаимодействия, реального понимания другим, т.е. функция связи с другими и собой потенциально восстановима. Можно сказать, что поддержание и развитие этой функции является важной задачей терапии, как терапевты мы привносим смысл и способность порождать его. Хотя это возможно не всегда. В случаях тяжелой травмы человек и не ожидает понимания, не может помыслить, что оно возможно. В этом случае важно научить его сосуществовать с травмой.
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
1. Abraham N., Torok M. (1994). The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
2. Alford C.F. (2016). Trauma, Culture, and PTSD. New York, NY: Palgrave Macmillan.
3. Bloom S.L. (2010). Bridging the Black Hole of Trauma: The Evolutionary Significance of the Arts. Psychother. Politics. Int. 8(3): 198–212.
4. Bloom S.L. (2011). Bridging the Black Hole of Trauma: The Evolutionary Significance of the Arts. Part 2. Psychother. Politics. Int. 9(1): 67–82.
5. Boonstra, R. (2013). Reality as the leading cause of stress: rethinking the impact of chronic stress in nature. Functional Ecol, 27, 11–23.
6. Delbo, C. (2001). Days and Memory. Translated by Rosette Lamont. Evanston, IL: Marlboro Press/ Northwestern University Press.
7. de Zulueta, F. (2009). Post-traumatic stress disorder and attachment: possible links with borderline personality disorder. Advances in Psychiatric Treatment, 15, 172–180
8. Fromm, Gerard M., ed. (2012). Lost in transmission Studies of trauma across generations. London: Karnac Books.
9. Fromm Gerard M. (2022). Traveling Through Time – How Trauma Plays Itself Out in Families, Organizations and Society. Bicester, OX: Phoenix Pub House.
10. Kraft, R. (2002). Memory Perceived: Recalling the Holocaust. Westport, CT: Praeger.
11. Lee R.R., Martin J.C. (1991). Psychotherapy after Kohut. Hillsday, NJ: The Analytic Press.
12. Pao P.-N. (1979). Schizophrenic Disorders: Theory and treatment from a psychodynamic point of view. New York, NY: International Universities Press.
13. Stein H. (2012). A mosaic of transmissions after trauma. In Lost in transmission Studies of trauma across generations. Ed. G.M. Fromm. London: Karnac Books, 173-201.