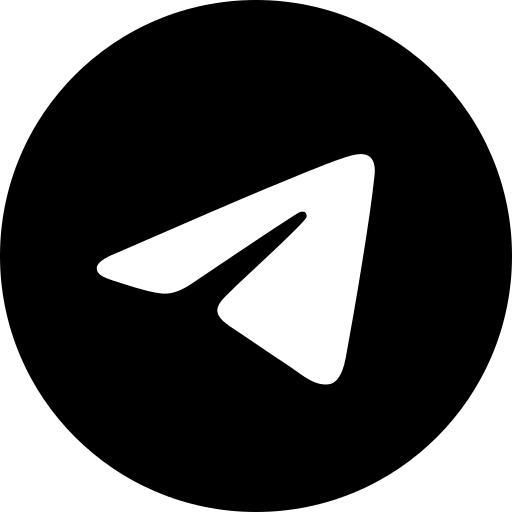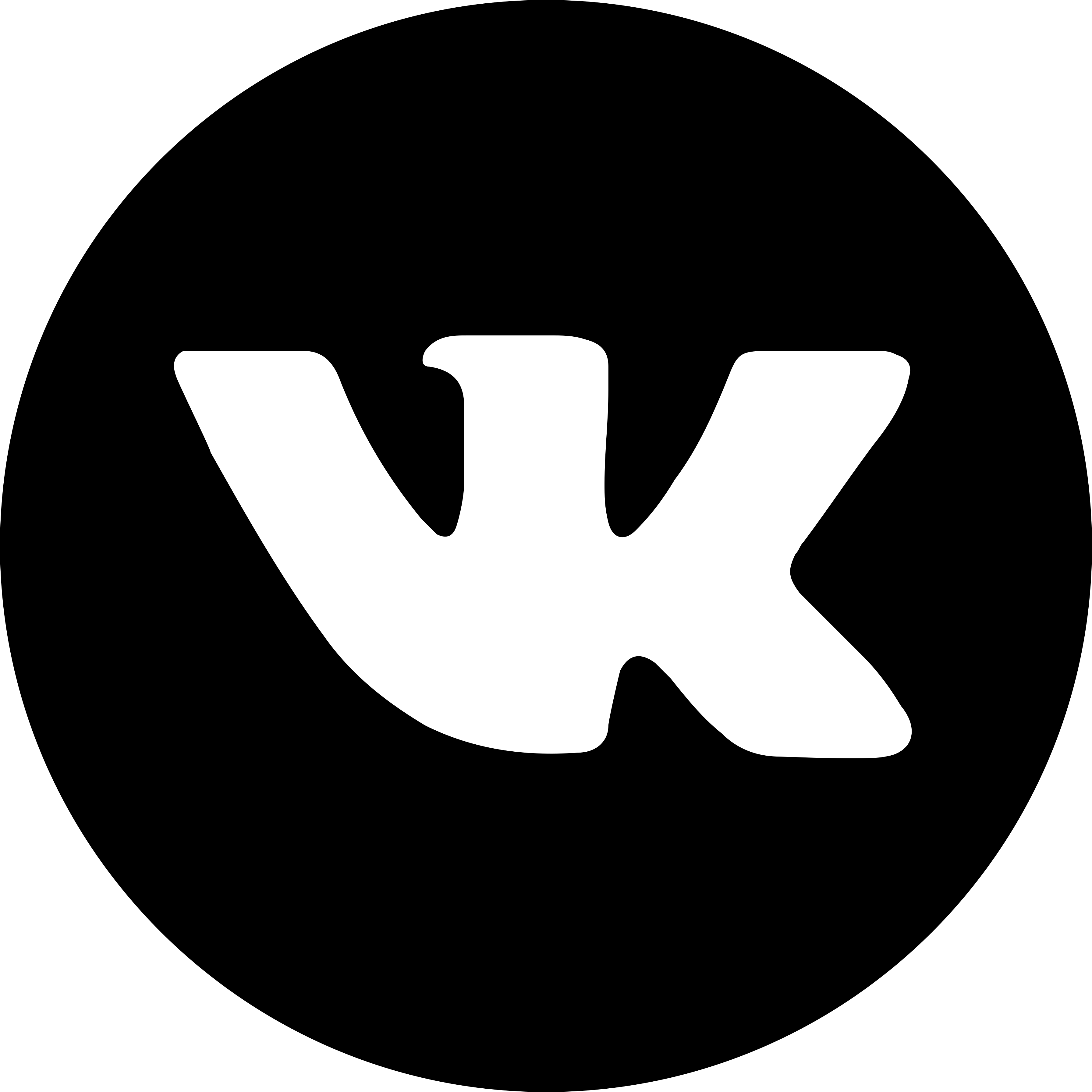- Специалист по медицинской психотерапии и общей психиатрии для взрослых в Фондовом трасте Национальной службы здравоохранения Великобритании для Южного Лондона и больницы Модсли.
- Член Королевского колледжа психиатров (Royal College of Psychiatrists).
- Получил медицинское образование в Оксфордском университете (University of Oxford), где был удостоен премии Рэдклиффа, степень MSc и степень PhD в области неврологии в Университетском колледже Лондона (University College London) и степень бакалавра английской литературы в Биркбек-колледже Лондона (Birkbeck College, University of London)

- Специалист по медицинской психотерапии и общей психиатрии для взрослых в Фондовом трасте Национальной службы здравоохранения Великобритании для Южного Лондона и больницы Модсли.
- Член Королевского колледжа психиатров (Royal College of Psychiatrists).
- Получил медицинское образование в Оксфордском университете (University of Oxford), где был удостоен премии Рэдклиффа, степень MSc и степень PhD в области неврологии в Университетском колледже Лондона (University College London) и степень бакалавра английской литературы в Биркбек-колледже Лондона (Birkbeck College, University of London)
НАПИСАНИЕ КОНСПЕКТА СЕССИИ: ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ И ПРОБЕЛЫ ТЕОРИИ
Сессия заканчивается, дверь закрывается, наступает тишина. Терапевт садится за компьютер. Нужно что-то написать, не важно, нравится это терапевту или нет. Письменная составляющая есть в любом обучении, и супервизоры обычно ждут материал в письменном виде. Например, Сертификационный комитет Американской психоаналитической ассоциации опубликовал рекомендации по написанию заметок о сессии; без данного навыка аналитик не сможет совершенствоваться в профессии (Bernstein, 1992). В конечном счете эта традиция восходит к Фрейду: он называл написание заметок о пациентах «обрядом перехода во взрослую жизнь», помогающим закрепить успехи в обучении и развить самосознание человека как терапевта (Mahony, 2002). Сам Фрейд установил высокую планку для писательства: он получил Премию Гете по литературе и описывал клинические случаи настолько подробно и оригинально, что их анализируют как романы (Marcus, 1975).
Осознав, как много от меня ожидается, хочу сразу признаться моим супервизорам, коллегам, пациентам, профессии, частью которой я надеюсь стать: я не умею писать заметки о сессии. Я не принадлежу к тому счастливому большинству терапевтов, для кого составление конспекта – приятное времяпрепровождение. В отличие от коллег, которые в тишине пустой комнаты вспоминают все происходившее во время недавней сессии вплоть до мельчайших деталей, я оказываюсь в ситуации, когда мозг закрывает мне доступ к материалу, едва лишь за пациентом закроется дверь. Я не могу написать удовлетворительный конспект: вспомнить, каким было приветствие, вспомнить чувство, нарастающее в тишине начала сессии, направление, которое избирает пациент, мой контрперенос, что я интерпретирую, как отвечает пациент – самую сущность терапии, кульминации мыслей и высказываний, уколы отчаяния и моменты откровения, все нюансы мимики и жестов – как будто ничего и не было. Я смотрю на сессию как на «бездонную пропасть вселенскую», по выражению Мильтона (Milton, 1976, с. 268). Действительно, признаюсь, что, подобно Мильтону, который в расцвете лет смотрел на мир уже невидящим взглядом и не мог записать «Потерянный рай», но продиктовал его полным пятистопным ямбом своим дочерям, я смотрю невидящим взглядом на сессию после ее завершения. Возможно, это то, что стоит подчеркнуть, и я нашел подходящие слова: я становлюсь «невосприимчив к сессии» (blind to the session). Или, допустим, я пришел не к священнику, а к доктору, и ищу не исповеди, а лекарства – тогда я болен «сессионной слепотой» (session blindness). В своей статье я буду и ученым, и врачом, и пациентом: необходимо понять природу болезни, назначить лечение и, в конечном счете, выздороветь, чтобы успешно написать конспект сессии.
Я буду и ученым, и врачом, и пациентом: необходимо понять природу болезни, назначить лечение и, в конечном счете, выздороветь, чтобы успешно написать конспект сессии.
Что же представляет собой «сессионная слепота» и насколько она описана в психоаналитической литературе? Поиск в PEP-Web (с использованием терминов «writing» (написание) и, в отдельном поиске, «process notes» (заметки о процессе), с дополнительными статьями, отобранными из ссылок в первоначальном поиске) выявил растущий объем работ по психоаналитическому письму в целом. Огден изложил свой метод написания статей, насыщенных теорией (Ogden, 2005). Питцер (Pizer, 2000) откровенно заявляет о своей тревоге по поводу самораскрытия. Вестин (Westin, 2008) говорит о «суровом суперэго», которое считает пустую страницу «недружелюбной». Кантровиц (Kantrowitz, 2004) исследует этические последствия написания статей о пациентах для публикации. Элштейн (Alstein, 2016) открыто заявляет о своем желании вступить в ряды великих писателей-психотерапевтов. В статьях Булгерони и Панеллы (Bulgheroni and Panella, 2013), Герсона (Gerson, 1999), Шехтера (Shechter, 2003) и Стенссона (Stensson,2001) представлены другие точки зрения. В перечисленных исследованиях содержатся ценные замечания, но все же внимание уделяется только одной цели – написанию аналитических статей для публикации – и не затрагивается обычная повседневная работа, которую должен выполнять каждый терапевт – составление заметок о сессии.
Я смотрю на сессию как на «бездонную пропасть вселенскую».
Однако было бы несправедливо утверждать, что по этой теме вообще ничего не написано. Бернштейн (Bernstein, 2008) глубоко осмыслил различные виды клинического письма и предложил разграничить «заметки о процессе», которые отражают просто обмен репликами во время сессии, и «аналитический процесс», который помимо этого включает в себя формулировки, используемые терапевтом, и его чувства, лежащие в основе его интервенций (с. 436). Я с огромным облегчением обнаружил, что, признавая заметки о сессии «фундаментально важными для преподавания и исследований в области психоанализа» и отмечая недостаточное освещение самого процесса написания в литературе, он также понимает «трудность» составления заметок о клиническом случае, предполагая, что, «поскольку общепринятый метод, который помог бы нам в письменном изложении клинических случаев, пока не разработан... клиническое письмо [может быть] унылым, непонятным, а иногда и травмирующим процессом» (Bernstein, 2008, с. 434). Для решения проблемы Бернштейн предлагает посетить его семинары (2008, с. 434). Действительно, Сюзан Фурман показала, что наставничество Бернштейна в области письма стало решающим фактором ее профессионального развития (Furman, 2006). В своей захватывающей и обнадеживающей статье Фурман говорит об удивительной свободе, которую она обрела как терапевт, научившись записывать аналитический процесс.
До сих пор никто не изучал сопротивление написанию конспекта сессии и не предлагал способы его преодоления.
Тем не менее и метод Бернштейна, и его практическое применение Фурман относится не к сессиям, а к клиническим случаям. В отличие от написания заметок об отдельных сессиях разбор клинического случая представляет собой комплексную работу, в которой «оформленные описания... отбираются из множества взаимодействий и, возможно, тысяч страниц заметок, фиксирующих бесчисленные когнитивные, аффективные, интрапсихические и межпсихические события» (Bernstein, 2008, с. 437). Читая вдохновляющий отчет Фурман о записях клинических случаев, я чувствовал нечто среднее между ее американским оптимизмом и очень британской тоской, которая находит, когда надел не те сапоги для ноябрьской прогулки по Норфолк Броудз [Национальный парк Norfolk Broads в английских графствах Норфолк и Саффолк. Примечание переводчика]. Натертые ноги. Сырые носки. Да и сапоги насквозь промокли. Если я даже не могу элементарно записать, кто что сказал, как я могу надеяться уловить переплетения мыслей, чувств, теорий и человеческих отношений, скрывающихся за словами? У меня нет даже одной страницы из бернштейновских «тысяч». В этой ситуации, не найдя утешения в психоаналитической литературе, я сделал то, что сделал бы любой человек, оказавшись в одиночестве в сумерках пустынного парка: огляделся в поисках таких же, как я, одиноких путников и провел предварительное качественное исследование опыта своих коллег в написании заметок о сессии. Насколько «сессионная слепота» признается другими аналитиками-стажерами?
Поскольку общепринятый метод, который помог бы нам в письменном изложении клинических случаев, пока не разработан... клиническое письмо может быть унылым, непонятным, а иногда и травмирующим процессом.
Для участия в исследовании я выбрал когорту специалистов, с которыми было удобнее всего поддерживать связь. Это врачи-стажеры, специализировавшиеся в области психиатрии, еженедельно проводившие сеанс психодинамической психотерапии с пациентом в течение одного года и находившиеся в супервизии у опытных психодинамических психотерапевтов и психоаналитиков. Я попросил стажеров прислать мне на электронную почту ответы на два, казалось бы, простых вопроса: (1) На что похоже для вас составление заметок о сессии? (2) Как вы думаете, на что должен быть похож конспект сессии? Возможно, формулировка вопросов, содержащая фразу «на что похоже», кажется странной, но это сделано намеренно. Во всяком случае, я получил письма с ответами, и словно ответный свет карманных фонариков прорезал темноту норфолкской ночи: я нашел попутчиков и понял, что совсем не одинок в своей проблеме. Я проанализировал ответы с помощью метода «обоснованной теории» (Grounded Theory), использующей «открытое кодирование» для классификации различных ответов по объединяющим темам (Holton, 2007). В ходе анализа всех ответов (n=24) в рамках «обоснованной теории» из ответов на первый вопрос было выделено несколько тем. Наиболее заметной оказалась тема «трудности»: неожиданно большое число респондентов (85%) рассказали о тех или иных трудностях при составлении конспекта. Но некоторые стажеры ответили, что писать заметки им нравится. Анализ подтем показал, что независимо от того, боялись ли опрошенные писать заметки или им это нравилось, их внимание и беспокойство были сосредоточены на одной из трех областей.
Тревога по поводу написания заметок связана с тремя областями: попытками точно вспомнить и записать сессию (акцент на сессии); попытками угодить супервизору или задобрить его (акцент на супервизоре); и попытками терапевта справиться с собственными реакциями на пациента (акцент на терапевте).
Первая область была связана с трудностями при попытке представить саму сессию и включала следующий комментарий: «Трудно точно воспроизвести все важные элементы сессии по памяти». Другой респондент ответил: «Я испытываю огромные трудности при написании заметок. Это... зависит от того, могу ли я точно вспомнить, о чем мы говорили – я то пишу целые страницы, то с трудом вспоминаю какие-то общие моменты, не говоря уже о деталях».
Вторая область связана с опасениями терапевтов о самих себе, в частности о собственных реакциях на контрперенос. Например, один стажер ответил: «[Писать заметки] дается мне очень нелегко, и я бьюсь над этим еще больше, когда ко мне приходит сопротивляющийся пациент... Как только сессии стали менее тревожными, писать стало легче».
Третья область, на которую стажеры обращали внимание при написании заметок, была связана не с сессией и не с терапевтом, а с супервизором. Один из респондентов отметил: «Я часто чувствовал, что манера восприятия моих заметок наводит на мысль, что я неточно описываю атмосферу сессий», и это беспокойство затрудняло написание. Другой стажер, напротив, ответил следующее: «Иногда, обычно, когда я подвергаюсь воздействию позитивного переноса, мне нравится [составлять конспект] и я с радостью предвкушаю возможность показать себя с лучшей стороны на супервизии!!!» Таким образом, тревога по поводу написания заметок связана с тремя областями: попытками точно вспомнить и записать сессию (акцент на сессии); попытками угодить супервизору или задобрить его (акцент на супервизоре); и попытками терапевта справиться с собственными реакциями на пациента (акцент на терапевте). Эти области схематично представлены на рисунке 1.
Рисунок 1 (см. pdf файл). Проблемные области при написании заметок о сессии. Источник: составлено автором [цветной рисунок доступен по ссылке wileyonlinelibrary.com]
Рисунок 2 (см. pdf файл). Структура эстетической теории (Abrams, 1953, c. 6). Рисунок был первоначально опубликован на с. 6 (W/C 4) главы 1 «Introduction: Orientation of critical theories» из книги M.H. Абрамса «The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition» (1971). Приводится с разрешения издательства Оксфордского университета, США (Oxford University Press, www.oup.com) [Цветной рисунок доступен по ссылке wileyonlinelibrary.com]
Эстетика имеет дело с триадой связей: каковы отношения между произведением искусства и, соответственно, жизнью, художником и аудиторией?
В ходе качественного исследования и краткого обзора литературы, проведенных мной, я выявил, с одной стороны, наличие у стажеров значительных и недо статочно изученных трудностей в написании заметок, а с другой – нехватку теоретической и практической помощи. Учитывая связь этих трудностей с тремя областями, выделенными в качественном исследовании, полагаю, что моя метафора «сессионной слепоты» здесь не подходит, поскольку она подразумевает одну проблему с одной причиной. Кроме того, я уверен, что среди слепых терапевтов есть много тех, кто не испытывает трудностей с написанием заметок. Также я не люблю метафоры, в которых слишком большое значение придается зрению в ущерб другим органам чувств. Хочу подчеркнуть, что тщательный поиск подходящей метафоры, готовность отказаться от нее и выбрать новую являются для меня решающими аспектами осмысления проблемы. До сих пор никто не изучал сопротивление написанию конспекта сессии и не предлагал способы его преодоления. Тем не менее, согласно результатам моего исследования, такое сопротивление испытывает огромная часть стажеров. Как показывает дальнейший анализ их ответов, эта проблема может негативно сказаться на терапии как таковой.
Движущая сила репрезентации – будь то произведение искусства или конспект сессии – состоит из трех задач: точно представить вселенную/сессию, угодить аудитории/супервизору или справиться с контрпереносом/эмоциональным состоянием терапевта/художника.
ЗАМЕТКИ О СЕССИИ VS ИНЫЕ ФОРМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Вследствие этого расхождения между насущными потребностями клинической и супервизорской практики, а также из-за отсутствия теоретической базы почти невозможно найти какие-либо пособия по составлению конспекта сессии в помощь начинающему аналитику. Следовательно, мне придется придумать творческие способы преодоления связанного с этим сопротивления и обратиться за помощью к дисциплинам за пределами нашей профессии. Известны случаи, когда психоанализ не стесняясь заимствовал ценные идеи из традиций мышления, более древних и глубоких, чем он сам. Например, когда Фрейд (1919) работал над эссе «Жуткое» (The Uncanny), он задумался над тем, как назвать форму переживания, совершенно отличную от импульсов или защит, и обратился к эстетической философии в поисках терминов для описания необычного качества переживания, атмосферы «зловещего». В случае с сопротивлением, на мой взгляд, тоже можно позаимствовать что-нибудь из эстетики, восходящей к Платону, воспринятой многими последующими философами и достигнувшей апогея в нынешней моде на «нейроэстетику». В чем важность эстетики? Будучи намного больше, нежели просто учением о восприятии красоты в искусстве, эстетика снова и снова на протяжении веков возвращалась к главному вопросу: что значит «написать что-то о чем-то», и при этом породила обширные теории, показывающие, как репрезентация соотносится с репрезентируемым объектом. Конечно, с точки зрения эстетики то, что «записывается» – это произведение искусства: рассказ, повесть, пьеса, танец, картина и так далее; но причина, по которой я считаю это значимым и для написания конспекта сессии, заключается в том, что, как отметил в своей книге «Зеркало и Светильник» М. Абрамс (Abrams, 1953), эстетика имеет дело с триадой связей: каковы отношения между произведением искусства и, соответственно, жизнью, художником и аудиторией? Абрамс составил диаграмму, показанную на рисунке 2, представляющую собой лаконичное обобщение двух тысячелетий эстетических изысканий.
Именно метафора отчасти создает, а не отражает значение, которое стремится описать.
Сходство между концепцией Абрамса и результатами моего качественного исследования стажеров поразительно. При сравнении рисунков 1 и 2 возникает мысль, что движущая сила репрезентации – будь то произведение искусства или конспект сессии – состоит из трех задач: точно представить вселенную/сессию, угодить аудитории/супервизору или справиться с контрпереносом/эмоциональным состоянием терапевта/художника. Конечно, отчасти это сходство может быть апостериорным: данные я проанализировал недавно, а за несколько лет до этого прочитал Абрамса, что, возможно, и повлияло на мои выводы. Тем не менее удивительно, что в психотерапевтической литературе до сих пор не рассматриваются на системном уровне насущные вопросы репрезентации, а именно: какие взаимосвязи существуют между составлением конспекта сессии, самой сессией, терапевтом и супервизором? Ибо, хотя мои личные трудности с написанием заметок можно было бы отнести к категории «контрперенос» и приписать им индивидуальное значение – как, собственно, я и сделал – моя гипотеза в данном случае заключается в том, что взаимосвязи основаны на общих принципах, которые я мог бы выявить с помощью идей эстетики и решить проблему написания заметок о сессии. Итак, что это за эстетические идеи?
Фрейд обосновывает идею о том, что запечатленное в бессознательной памяти может существовать дольше осознанного переживания.
ТРЕСНУВШЕЕ ЗЕРКАЛО
В эстетической теории мыслители стремятся понять искусство, применяя метафоры. Возможно, даже мы в психотерапии не привыкли к таким масштабам использования символизации. Метафора здесь не просто украшение, проявление скрытого смысла или символ. Метафора – это способ выполнения работы, метод мышления, метод проверки предположений и убеждений. Для эстетики метафора то же самое, что исследование клинического случая для психотерапии или рандомизированное контролируемое исследование для медицины. Более того, она, как сказал бы Абрамс, «конститутивна»: именно метафора отчасти создает, а не отражает значение, которое стремится описать. Вопрос, выходящий за рамки моей статьи, заключается в том, насколько это утверждение верно для психоанализа. Произведения Фрейда состоят из метафорических приключений, ярких образов, которые проникают и в названия его статей. Например, «Заметка о чудо-блокноте» (A Note upon the Mystic Writing Pad), где с помощью прообраза знакомой нам сегодня развивающей игры «Волшебный экран» (Etch-aSketch) Фрейд обосновывает идею о том, что запечатленное в бессознательной памяти может существовать дольше осознанного переживания (Freud, 1925). Вилсон (Wilson, 1986, с. 701) в обзоре объемной статьи Козниера (Cosnier) о фрейдовской «Заметке…» отмечает, что существовала тесная связь между практикой Фрейда и созданием моделей, включая метафоры на разных уровнях абстракции, для описания отношений между прошлым и настоящим.
Но, возможно, только представления Юнга (1964) о символизации могут тягаться с эстетикой в ее признании творческой силы метафоры. И моя задача – найти метафоры, с помощью которых я смогу глубже понять собственное сопротивление написанию заметок и предложить способы его преодоления. Принимая во внимание важность метафоры в эстетике и психотерапии, я сформулировал свой исследовательский вопрос для стажеров именно так: «Как вы думаете, на что должен быть похож конспект сессии?». Такая формулировка как раз подразумевает использование метафоры, потому что я хочу сопоставить ответы стажеров с различными эстетическими метафорами.
Метафора, обозначающая то, чем должно быть искусство, оставалась неизменной на протяжении более чем двух тысячелетий: искусство должно быть зеркалом вселенной.
До революции в психологии и эстетике XIX века, начало которой возвестили Сэмюэль Тейлор Кольридж и Уильям Вордсворт, метафора, обозначающая то, чем должно быть искусство, оставалась неизменной на протяжении более чем двух тысячелетий: искусство должно быть зеркалом вселенной. Это соответствует самым верхним соотношениям на рисунках 1 и 2. В этой системе, впервые описанной Платоном, художник – всего лишь посредник, держащий зеркало; более того, посредник, личность, психология и моральные принципы которого не имеют значения – даже не существуют. Художник – это творец, старающийся соответствовать общепринятым стандартам в воспроизведении и/или выборе естественных форм для репрезентации (Abrams, 1953). Может показаться, что эта классическая точка зрения не имеет ничего общего с психотерапевтической позицией, которая не признает отрицание субъективности, заключающееся в идее о том, что художник сам по себе не имеет значения, а его функция – лишь держать зеркало.
В отличие от эстетики, исследующей взаимосвязь между текстом и репрезентируемым объектом до мельчайших деталей, психотерапия, по-видимому, рассматривает текст сессии как почти приемлемо искаженное представление реальности, доступ к которой желает получить супервизор.
Однако, анализируя ответы стажеров на второй вопрос, я обнаружил иную точку зрения. Респонденты проявляли беспокойство по поводу написания заметок именно потому, что были убеждены в необходимости воспроизвести сессию как можно более точно. Один стажер ответил: «Мне сказали составить конспект так, чтобы было похоже на сценарий к фильму». Другой написал: «Заметки должны воспроизводить сессию с точностью до мелочей». У третьего ситуация такая: «Мой супервизор просит что-то вроде аудио- или видеозаписи. Почему мне не позволяют записывать?» Точка зрения, высказанная респондентами, находит отражение в общепринятом в психотерапии требовании воспроизводить сессию дословно как можно более точно. Например, Вортон (Wharton, 2003) отмечает, что хотя термин «супервизия» подразумевает «наблюдение» за сессиями обучаемых, супервизоры не могут по-настоящему «увидеть», что происходило во время сессии, и, возможно, им следует это признать и перестать тешить себя подобными фантазиями. Вортон пишет, что заметки о сессии «в лучшем случае формируются бессознательно». Возможно, она подразумевает, что лучшие заметки – те, которые не формулируются, а отражают. Действительно, отклонения от этого идеала для подражания часто рассматриваются как прискорбный атрибут несовершенного разума, чье бессознательное в данном случае затуманивает произошедшее «на самом деле». В отличие от эстетики, исследующей взаимосвязь между текстом и репрезентируемым объектом до мельчайших деталей, психотерапия, по-видимому, рассматривает текст сессии как почти приемлемо искаженное представление реальности, доступ к которой желает получить супервизор.
Художник – всего лишь посредник, держащий зеркало.
На это мне могут возразить, что я создал «соломенное чучело»: на самом деле ни один супервизор не хочет, чтобы стажер писал заметки с зеркальной точностью; искажение – неизбежная и действительно важная часть процесса написания. Приветствуется добавление элементов контрпереноса. Это доказывает и Бернштейн в своих подробных описаниях процесса аналитического письма. Что ж, я согласен со всем вышесказанным. Но даже с учетом контрпереноса и процесса требование точной репрезентации сессии никто не отменяет, и все равно используется та же скрытая метафора зеркала, просто обращенная к другим, менее очевидным и не выраженным словами аспектам сессии. Отразить эти элементы непосредственно в словах, возможно, даже сложнее, чем репрезентировать то, что было сказано.
Мое исследование указывает здесь на негативные последствия покорного принятия метафоры зеркала для стажеров: они обнаруживают, что попытки всеми силами запомнить происходящее во время сессии могут привести к боязни делать заметки вообще. Респонденты писали о том, как во время сессии они сосредотачивались на запоминании фраз, вместо того чтобы стараться уловить более глубокие оттенки значений слов и смысл пауз. Например, один стажер ответил: «Мне кажется, что попытки запомнить разговор для последующего составления конспекта плохо влияют на ход самой сессии ... когда я подумал, что не буду пытаться запоминать, все пошло намного лучше». Похоже, именно давление, которое мы испытываем из-за требования точно отобразить сессию, очень сильно нас угнетает, утомляет, напрягает. На мой взгляд, зеркало – неподходящая метафора; но вместо того, чтобы исследовать возникающие трудности, похоже, предпринимается попытка игнорировать наличие проблемы как таковой. Тревогу, по крайней мере у меня, вызывает сам акт использования слов для «сшивания» сессии по кусочкам.
А сейчас предлагаю отвлечься от метафоры зеркала, потому что мне на ум пришла еще одна: метафора сшивания, ткачества. В памяти всплывают изображения гобеленов и чайных полотенец, а также книга Розики Паркер «Подрывной шов», в которой говорится как раз о том, что я пытаюсь описать. В своей работе (Parker, 2010) она исследует, как менялись практики шитья на протяжении истории. Паркер раскрывает угнетающую роль шитья и показывает, как с его помощью мужчины пытались приучить женщин к покорности, потому что женщины были вынуждены сидеть, низко склонившись над шитьем. Я считаю, что требование зеркально точного изложения сессии – это тоже своего рода угнетение потенциально творческого акта, акта написания. Давайте еще раз представим ситуацию после окончания сессии. Терапевт закрывает дверь, и наступившая тишина может наполниться чувством. Переполнение чувством и рождает поэзию, музыку, танец, любое искусство. И именно это чувство противоположно точным научным действиям – написанию заметок, цель которых – отразить то, что «произошло на самом деле». Я считаю, что попытка сделать это с использованием речи исключительно в ее референтной функции требует мгновенного и сильного искажения контрпереноса. Что может быть более пагубным для терапевта-стажера?
Заметки о сессии «в лучшем случае» формируются бессознательно.
Паркер описывает, как занимавшиеся шитьем сумели высвободить свое искусство из тисков угнетения и стали снова использовать его творчески. Например, художница Трэйси Эмин применила вышивку в своей инсталляции – палатке под названием
«Everyone I have ever slept with 1963–1995» (Все, с кем я спала в 1965–1995 годах), которую она расшила именами всех попадающих в эту категорию, включая плюшевого мишку и свою бабушку. Паркер упоминает и о том, что Эмин создала вышитое полотно, на котором фраза «There’s no fucking peace» (Нет гребаного мира) вышита на фоне прямоугольников с цветочным принтом. Так она напоминает нам об угнетающей истории вышивания, которой противопоставляет чувство злости, выраженное в вышивке. Чтобы по-настоящему понять угнетение, которое чувствует терапевт – и действительно, боль и злость в ответах стажеров меня поразили – нужно, чтобы кто-то вроде Трэйси Эмин, обладающий такой же мощной силой художественного воздействия, создал произведение искусства под названием, например, «Все, кого я лечил»: в нем художник разбивает зеркало об пол галереи и приглашает зрителей пройтись по осколкам.
Лучшие заметки – те, которые не формулируются, а отражают.
Разбитыми вдребезги представляются мне и свои собственные усилия найти нужную метафору в эстетической теории для написания заметок о сессии. Древнейшая метафора эстетических размышлений – зеркало – не смогла мне помочь. Она не только широко используется в психотерапии, но и, на мой взгляд, сильно мешает процессу написания. Если зеркало разбито, что можно использовать вместо него для преодоления сопротивления написанию конспекта?
СВЕТИЛЬНИК
Наверное, вы уже поняли, что я амбивалентно отношусь к сессии и к составлению конспекта. Я осознал это постепенно, за прошедший год. Возможно, вследствие того, что я недавно стал отцом и сейчас испытываю сложности в этой новой для меня роли, а также из-за того, что я не так давно стал терапевтом и испытываю сложности в этой области тоже, выход из ситуации стал для меня очевидным только после того, как я прочитал книгу Розики Паркер об амбивалентных матерях. Паркер приводит их реальные высказывания и убедительно доказывает, что амбивалентные чувства, испытываемые матерями, не являются чем-то ужасным, как думают многие. Они знаменуют собой не конец, а наоборот, начало глубоких отношений с ребенком при условии, что мать признает наличие в себе этих чувств. Относиться амбивалентно к чему-то означает глубоко размышлять об этом. Паркер пишет (2005, с. 8): «Я считаю, что управляемая материнская амбивалентность играет особенную, творческую роль… В самих страданиях, вызванных ею, обретается плодородная почва для развития отношений матери и ребенка». Одни лишь чувства близости не принесут ни заботы, ни чуткости, а навязывание их матерям в качестве единственно правильного эмоционального вектора, спровоцирует, по мнению Паркер, трансформацию управляемой амбивалентности в нечто «неуправляемое», вызывающее лишь чувство вины (Parker, 2005, с. 34). То же самое и с написанием заметок: требовать точно воспроизвести сессию – все равно что сказать амбивалентной матери: люби свое чадо, иначе будет плохо! Попытки заставить себя вспомнить с зеркальной точностью все происходившее во время сессии вызовут неконтролируемое отторжение, вместо того чтобы, во-первых, помочь матери/терапевту принять собственную ненависть, и во-вторых – ключевой шаг – сделать так, чтобы сочетание ненависти и любви преобразилось в творческий интерес к ребенку/пациенту. Как же применить эти идеи к сессии и превратить амбивалентность в нечто творческое?
Тревогу, по крайней мере у меня, вызывает сам акт использования слов для «сшивания» сессии по кусочкам.
В неприятии метафоры зеркала я не одинок: ее не принимали многие поэты и критики эпохи романтизма с конца XVIII века и далее. Растущая ценность субъективного опыта и отказ от идеалов Просвещения привели к убеждению, что искусство вовсе не является репродукцией природы. Скорее, искусство – это выражение внутреннего мира поэта. Данную тему затронули английские и немецкие деятели, многих из которых, возможно с интересом, читал Фрейд. Насколько мне известно, подробного исследования произведений авторов-романтиков в библиотеке Фрейда не проводилось [я сейчас не говорю об интереснейших работах Элленбергер (Ellenberger, 1981), Энклла (Enckell, 1981) и Ффитче (Ffytche, 2012) по изучению связей между отдельными представителями романтизма и психоаналитической мысли]. Однако, просмотрев онлайн-каталог библиотеки Фрейда (https://www.freud.org.uk/archive/library/) я обнаружил в нем сочинения немецких романтиков: Клеменса Брентано, Генриха Гейне, Гегеля, Гельдерлина, Клейста и многих других. Эти авторы, как и их английские коллеги – поэты-романтики «Озерной школы» – теперь искали на смену метафоре зеркала совсем другие образы для своих произведений (Abrams, 1953).
Чтобы проиллюстрировать этот «раскол» между метафорами, рассмотрим одно из самых знаменитых стихотворений той эпохи – поэму «Кубла Хан» Кольриджа, написанную в 1797 году. В ней говорится о стране Ксанад – владениях Кубла Хана, где находится «пропасть, жуткою полна красою» (Coleridge, 2008, с. 103–104) (перевод Владимира Рогова) [у Кольриджа: «romantic chasm» – дословно: романтическая расщелина, трещина. Примечание переводчика].
И, неумолчно в пропасти бурля,
Как будто задыхается земля,
Могучий гейзер каждый миг взлетал
И в небо взметывал обломки скал —
Они скакали в токе вихревом,
Как град или мякина под цепом!
(перевод В. Рогова)
В этом образном описании зарождения реки критики находят метафору творческого процесса как такового (Milne, 1986). Действительно, перед глазами встает совсем иной образ, нежели представление о художнике как о пассивном посреднике, функция которого – лишь держать зеркало. Напротив, мы видим художника, обладающего могущественной, почти безграничной и опасной силой, позволяющего ей разгуляться и не слишком старающегося ее сдержать. Кульминации этот образ достигает в конце поэмы в незабываемом описании Кольриджем своей собственной художественной силы:
Я воздвиг бы тот чертог
И ледяных пещер красу!
Их каждый бы увидеть мог
И рек бы: «Грозный он пророк!
Как строгий взор его глубок!
Его я кругом обнесу!
Глаза смежите в страхе: он
Был млеком рая напоен,
Вкушал медвяную росу».
(перевод В. Рогова)
В контексте моих рассуждений важна не только сама поэма, но и история ее создания. Поэма очень короткая – половину я уже процитировал – и в предисловии к ней Кольридж рассказывает, как однажды занемог, принял «болеутоляющее» (вероятно, опиум), заснул и во сне увидел гораздо более объемное произведение в 300 строк. Он принялся его записывать, но тут к нему зашел человек, прибывший из Порлока [Порлок – деревня на юго-западе Англии. Примечание переводчика] (Coleridge, 2008, с. 102–103). После разговора с ним Кольридж понял, что забыл почти все произведение. Вспомнил он лишь «кусочек» сна, который и стал поэмой «Кубла Хан». Образ безудержного творческого начала в поэме, вместе с намеком на ее мистическое происхождение – из-за недомогания, под действием наркотика, во сне, а также случайное вмешательство некоего человека из Порлока – все это отражает скорее душевное состояние поэта, чем состояние природы, и олицетворяет меняющееся эстетическое мировоззрение эпохи романтизма. Вордсворт четко сформулировал свою философию и философию Кольриджа: поэт не стремится репрезентировать мир. Стихотворение не отражает мир. Поэт обращается к собственным эмоциям, переполнение которыми рождает стихотворение. В результате получается не зеркало, отражающее, а собственный разум художника, освещающий мир. Зеркало превращается в светильник.
В отличие от эстетики, исследующей взаимосвязь между текстом и репрезентируемым объектом до мельчайших деталей, психотерапия, по-видимому, рассматривает текст сессии как почти приемлемо искаженное представление реальности, доступ к которой желает получить супервизор.
«Кубла Хан» занимает 41 место среди самых любимых стихотворений британцев. Заляпанные чернилами рукописи произведений Кольриджа, написанных под воздействием «лекарственных препаратов», с гордостью выставлены в Британском музее. Возможно, все это свидетельствует о неосознанном признании обществом изменившегося представления о человеческом потенциале. Действительно, переход к метафоре светильника оказал сильное влияние не только на эстетику, но и на психологию, поскольку подразумевал глубокую субъективность, о которой до сих пор никто и мечтать не мог. Внезапно универсальные эстетические нормы и истины исчезли, и в центре внимания оказалась личность. Без этого сдвига в эстетике XVIII и начала XIX веков исследования субъективности истерии в конце XIX века просто не начались бы. Ффитче (2012) и Элленбергер (1981) показали, что, не испытав на себе влияние романтизма, наша профессия не существовала бы в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. Итак, может ли этот новый набор метафор – светильники и фонари, бьющие фонтаны, бурлящие реки, могущественные потоки чувств – помочь мне решить проблему написания заметок о сессии?
Прежде, чем рассмотреть этот метод в действии, хочу прояснить, что, по моему мнению, делает терапевт при написании заметок. Опять же можно предположить, что я просто выступаю за перечисление контрпереносных чувств в конспекте сессии. Отнюдь. Да я и не могу. Я редко понимаю свой контрперенос настолько хорошо, чтобы говорить о нем прямо. Как показали Кольридж и Вордсворт, возникновение и предназначение поэзии как раз и обусловлены подобными трудностями: язык в его стандартной форме не способен описать наши чувства. Дэниел Стерн отмечает, что язык – наше огромное приобретение, но, научившись языку, мы переживаем огромную потерю – лишаемся «амодального» или целостного, эмоционального и сенсорного опыта (Stern, 1981, с. 176). Однако поэзия (как признает Стерн) предлагает выход из языкового тупика. Ибо эмоция может быть эффективно передана не только или даже не столько через значение слов, сколько через их форму: ритм, рифму, порядок, метафорический подтекст – короче говоря, с помощью множества поэтических средств выражения (Nowotny, 1962). И вот что я предлагаю: не стараться изо всех сил записать сессию эксплицитно, используя язык в его референтной функции, а начать записывать, вызывая в памяти атмосферу сессии, пробуждая образы, связи, рифмы слов, лишенные смысла, но богатые музыкальным символизмом и эмоциональной окраской. Забудьте о зеркале. Включите внутренний свет, и пусть он разольется по экрану.
ЗЕРКАЛО И СВЕТИЛЬНИК
Однако, выбросив зеркало и радуясь светильнику, я ощущаю смутное беспокойство. Надеюсь, у меня когда-нибудь получится преодолеть сопротивление написанию заметок, я закончу обучение, получу профессию и, в конечном счете, стану супервизором. Мог бы я в таком случае разрешить супервизантам приносить мне лишь конкретизированные сублимации их собственного контрпереноса? Нужны ли мне ритмы, образы, языковые причуды? Учитывая мои восторги по поводу светильника, как я могу запретить стажеру, например, станцевать, если он хочет в танце выразить происходившее на сессии? Никак. Или что делать, если стажер принес на супервизию вышитое кухонное полотенце и ушел? И хотя теперь мне будет чем вытереть посуду, я все равно проведу остаток вечера, пытаясь разобраться, каковы реальные отношения между стажером и пациентом; обозначает ли, например, красная строчка на полотенце попытку членовредительства или суицидальные мысли.
В сочетании метафор, создающем новые символы творчества, которые объединяют собственное «я» и сессию, я нашел, наконец, нужные предпосылки для написания заметок.
Следовательно, несмотря на сложности, вытекающие из требования точной репрезентации сессии, необходимо, чтобы какая-то определенность все же присутствовала. Вспомним, насколько важными для открытия бессознательного были конкретные слова: оговорки, шутки, каламбуры – потому что огромный пласт скрытых смыслов обнаруживается именно в эксплицитной специфике языка. И важнейший аспект, который супервизор обязан рассмотреть, – динамику взаимоотношений между терапевтом и пациентом – нельзя оценить по-настоящему, если терапевт предоставляет только плоды своего воображения, даже обусловленные сессией. Если зеркало – слишком «жесткий» инструмент для воссоздания сессии, светильник – слишком «туманный». Поэтому я снова обращаюсь к эстетике за помощью в поиске более подходящей метафоры.
Многие считают, что романтическая традиция сосредоточена исключительно на воображении, обусловленном эмоциями, и забывает о реальном мире. Но на самом деле романтики были глубоко погружены в материальную сторону жизни: от едких замечаний Блейка о бедности в Лондоне до приверженности Вордсворта естественному языку, общему и понятному для всех, их искусство начиналось и заканчивалось проблемами реальных людей, живущих в неспокойном мире. Будь они терапевтами, они пришли бы в ужас от моей идеи составлять заметки о сессии, опираясь исключительно на воображение. Оба способа представления мира – и зеркало, и светильник – одинаково важны, как неохотно признает Вордсворт: «Способность наблюдать вещи такими, какие они есть, и точно их описывать, не поддаваясь влиянию собственных страстей или чувств ... хотя и совершенно необходима для Поэта, но пользуется он ей только по насущной необходимости и всегда непродолжительно: поскольку ее использование предполагает, что все высшие качества ума бездействуют и находятся в подчинении у внешних объектов» (Abrams, 1953, с. 153–154).
Мое исследование указывает здесь на негативные последствия покорного принятия метафоры зеркала для стажеров: они обнаруживают, что попытки всеми силами запомнить происходящее во время сессии могут привести к боязни делать заметки вообще.
Некоторые комментаторы-романтики пытались объединить метафоры зеркала и светильника и создать общий способ удовлетворения двойного требования репрезентации: отразить природу и выразить внутренний мир поэта. Например, Хазлитт говорит о зеркале, отражающем внутренний свет (Abrams, 1953, с. 52), Кольридж предпочитает органические метафоры: растущие растения, поглощающие свет листьями и питательные вещества корнями, созревание, рождение (там же, с. 69). Попытки романтиков отыскать подходящую метафору увенчивались успехом от стихотворения к стихотворению – в результате накопилось бесценное художественное наследие. Оно может пригодиться и терапевтам: в сочетании метафор, создающем новые символы творчества, которые объединяют собственное «я» и сессию, я нашел, наконец, нужные предпосылки для написания заметок. И сейчас я хотел бы представить вам доступный и эффективный метод, с помощью которого, в контексте рассмотренных в статье противоречий и неопределенностей, смог написать конспект сессии.
Я ступаю на неизведанную территорию, нетронутую исследованиями опыта других людей, потому что я единственный, кто проверил этот метод в действии. Для меня полученные результаты оказались революционными. В напряженной тишине после сессии, направляясь к компьютеру, я больше не чувствую подавленность и тревогу, а наоборот, легкость, радостное волнение и интерес. Я не пытаюсь вспомнить или проигнорировать свои чувства, вообще ничего не пытаюсь вспомнить, а позволяю образам всплывать в памяти и откликаться в потоке чувств. Я записываю эти образы, какими бы причудливыми они ни были, в заметках о сессии. Я погружаюсь в поток свободных ассоциаций, впускаю всех демонов и фей, открываю дверь всем едва различимым формам, даже отрывкам слов – все ложится на страницу. Результат поразительный: внезапно, из ниоткуда, я вспоминаю сессию. Я словно подобрал ключ к той закрытой двери памяти. Я ловлю и записываю драгоценные кусочки сессии, и если они заканчиваются, если дверь закрывается – не беда, ничего страшного, тогда я просто возвращаюсь побродить по полям образов, вновь взбираюсь на горы воображения и углубляюсь в самую чащу фантазии. Причудливые образы, странные слова, бешеные удары пальцев по клавиатуре – и вскоре опять вспоминается все больше и больше. Потом уходит. И снова я (выражаясь образно!) принимаю опиум, засыпаю, приветствую всех прибывших из Порлока и записываю фрагменты сессии.
Что будет, если я покажу все это супервизору? Долгое время я не осмеливался. Это была моя страшная тайна, моя Берта Мейсон [персонаж романа Ш. Бронте «Джейн Эйр». Примечание переводчика], маленькая безумная идея, спрятанная на чердаке. Но однажды безумие вырвалось наружу: я зачитывал конспект сессии супервизору и понял, что начинаю нести чушь. Я смешал свою фантазию с реальными высказываниями пациентки – и не смог отличить одно от другого. Я покраснел и посмотрел на супервизора. Потом рассказал о сопротивлении написанию заметок и вкратце описал свой метод его преодоления. К моему разочарованию, супервизор никоим образом меня не осудила и просто попросила прочитать вслух, что я нафантазировал. До этого супервизия шла немного вяло. Сессия, конспект которой я зачитывал, казалась скучной – пациентка довольно дерзко рассказывала о том, как одурачила своего дедушку. Супервизия проходила в пятницу после обеда, нам обоим хотелось домой. Чередование фраз «Я сказал…» и «Она сказала…» в лучшем случае навевало сон. Я сглотнул, доверился супервизору и зачитал следующее (звездочки обозначают мои собственные фантазии):
«С таким бременем, с таким грузом ответственности, который на вас лежит, интересно, чувствуете ли вы себя здесь одиноко? Не помню, что она сказала... так что... *да, на меня навалилось вселенское одиночество. Я пытаюсь вырезать инструменты с помощью плохих ножей, инструменты, чтобы вырезать больше инструментов, чтобы вырезать больше инструментов, чтобы вырезать больше инструментов. Но я вырезаю для того, чтобы мне не приходилось смотреть ни на какие деревья...*»
Супервизор интерпретировала так:
«Пациентка вырезает вас из сессии, говоря, что она тут главная, принижает ваше положение, также она вырубает и ту часть самой себя, которая хочет использовать вас в качестве груши для битья, и вымещает это на своем дедушке».
Я был потрясен: интерпретация оказалась близка к истине, и найти ее помог мой метод. Мне пока трудно распознать, что на сессии произошла борьба за власть – для меня это «слепое пятно». Ведь я аналитик-стажер, весьма далекий от полной «проанализированности», во мне все еще сильны подавление и избегание, защитные механизмы, благодаря которым я многого достиг в медицине, но которые «бросали тень» на мое обучение психотерапии. Тем не менее на супервизии метод зеркала и светильника помог озарить слепое пятно.
Я считаю, что требование зеркально точного изложения сессии – это тоже своего рода угнетение потенциально творческого акта, акта написания.
В статье я довольно смело рассказал о своих трудностях при написании конспекта сессии, необходимого для проникновения в саму ее суть. Цель работы – помочь терапевтам, которые, как и я, испытывают трудности с составлением заметок. Метод использует две главные метафоры эстетической теории, сочетая точное описание того, что произошло «на самом деле», с бурным, свободным потоком слов, помогающим вспомнить сессию с привлечением бессознательных способов. Чем больше я использую обе метафоры, тем больше убеждаюсь, что вместе они помогают мне составить творчески насыщенный и клинически точный конспект. Метод выходит за пределы языка в его референтной функции и открывает сферу опыта, гораздо более близкую к переживанию самой сессии. Надеюсь, что зеркало и светильник, а возможно и другие, личные для каждого, метафоры, помогут терапевтам проникнуть в эту сферу. Ибо, хотя ответ меняется каждую неделю, вопрос остается неизменным: на что была похожа сессия?
REFERENCES
- Abrams, M.H. (1953) The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition. New York: Oxford University Press.
- Altstein, R. (2016) Finding words: How the process and products of psychoanalytic writing can channel the therapeutic action of the very treatment it sets out to describe. Psychoanalytic Perspectives 13: 51–70.
- Bernstein, S.B. (1992) Guidelines: Comments on treatment report writing and describing analytic process. Journal of Clinical Psychoanalysis 1: 469–78.
- Bernstein, S.B. (2008) Writing about the psychoanalytic process. Psychoanalytic Inquiry 28(4): 433–49.
- Bulgheroni, M. & Panella, F. (2013) Interview with Dana Birksted-Breen: On writing psychoanalysis. Societa Psicoanalitica Italiana 1: 1.
- Coleridge, S.T. (2008) Kubla Khan or, A vision in a Dream. In: Coleridge, S.T., The Major Works, pp. 102–4. Oxford: OUP, 1816.
- Ellenberger, H. (1981) The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books.
- Enckell, M. (1981) Freud and romanticism. Scandinavian Psychoanalytic Review 4: 177–92.
- Ffytche, M. (2012) The Foundation of the Unconscious: Schelling, Freud and the Birth of the Modern Psyche. Cambridge: Cambridge University Press.
- Freud, S. (1919) The ‘uncanny’. SE XVII, pp. 217–56.
- Freud, S. (1925) A note upon the ‘mystic writing-pad’. SE XIX, pp. 225–32.
- Furman, S.G. (2006) The write of passage from candidate to analyst: The experience of writing analytic process. Psychoanalytic Inquiry 26: 682–97.
- Gerson, M. (1999) Personal authorship. Psychoanalytic Psychology 16: 469–72.
- Holton, J.A. (2007) The coding process and its challenges. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (eds), The Sage Handbook of Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Jung, C.J. (1964) Man and his Symbols. London: Picador.
- Kantrowitz, J.L. (2004) Writing about patients: I. Ways of protecting confidentiality and analysts’ conflicts over choice of method. Journal of the American Psychoanalytic Association 52: 69–99.
- Mahony, P. (2002) Freud’s writing. Journal of the American Psychoanalytic Association 50: 885–907.
- Marcus, S. (1975) Representations: Essays on Literature and Society. London: Random House.
- Milton, J. (1976) Paradise Lost. In: Bush, D. (ed.), The Portable Milton. London: Penguin, 1667.
- Milne, F. (1986) Coleridge’s ‘Kubla Khan’: A metaphor for the creative process. South Atlantic Review 51(4): 17–29.
- Nowotny, W. (1962) The Language Poets Use. London: The Athlone Press.
- Ogden, T.H. (2005) On psychoanalytic writing. International Journal of Psychoanalysis 86: 15–29.
- Parker, R. (2005) Torn in Two: The Experience of Maternal Ambivalence. London: Virago.
- Parker, R. (2010) The Subversive Stitch. London: Tauris.
- Pizer, S.A. (2000) A gift in return. Psychoanalytic Dialogues 10: 247–59.
- Shechter, R.A. (2003) The struggle with self-disclosure in clinical writing. Psychoanalytic Social Work 10: 65–70.
- Stensson, J. (2001) On writing psychoanalysis. International Forum of Psychoanalysis 10: 191–5.
- Stern, D. (1981) The Interpersonal World of the Infant. London: Karnac.
- Westin, S. (2008) My experience with the panel on writing. Psychoanalytic Inquiry 28: 507–9.
- Wharton, B. (2003) Supervision in analytic training. In: Weiner, J. Mezen, R. & Duckham, J. (eds), Supervising and Being Supervised: A Practice in Search of a Theory. London: Palgrave Macmillan.
- Wilson, E., Jr (1986) Revue Française De Psychanalyse. XLV, 1981. Psychoanalytic Quarterly 55: 701–2.
Перевод Анастасии Поповой