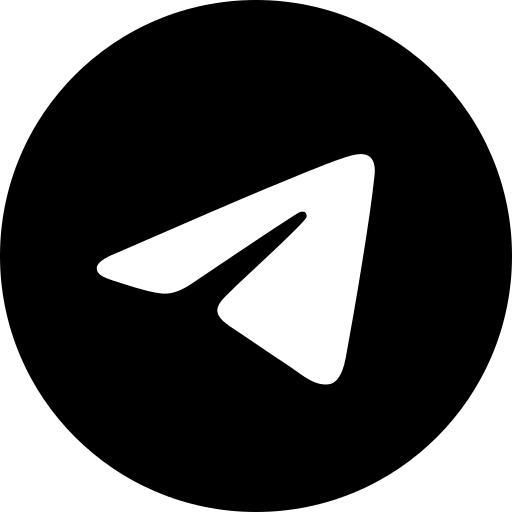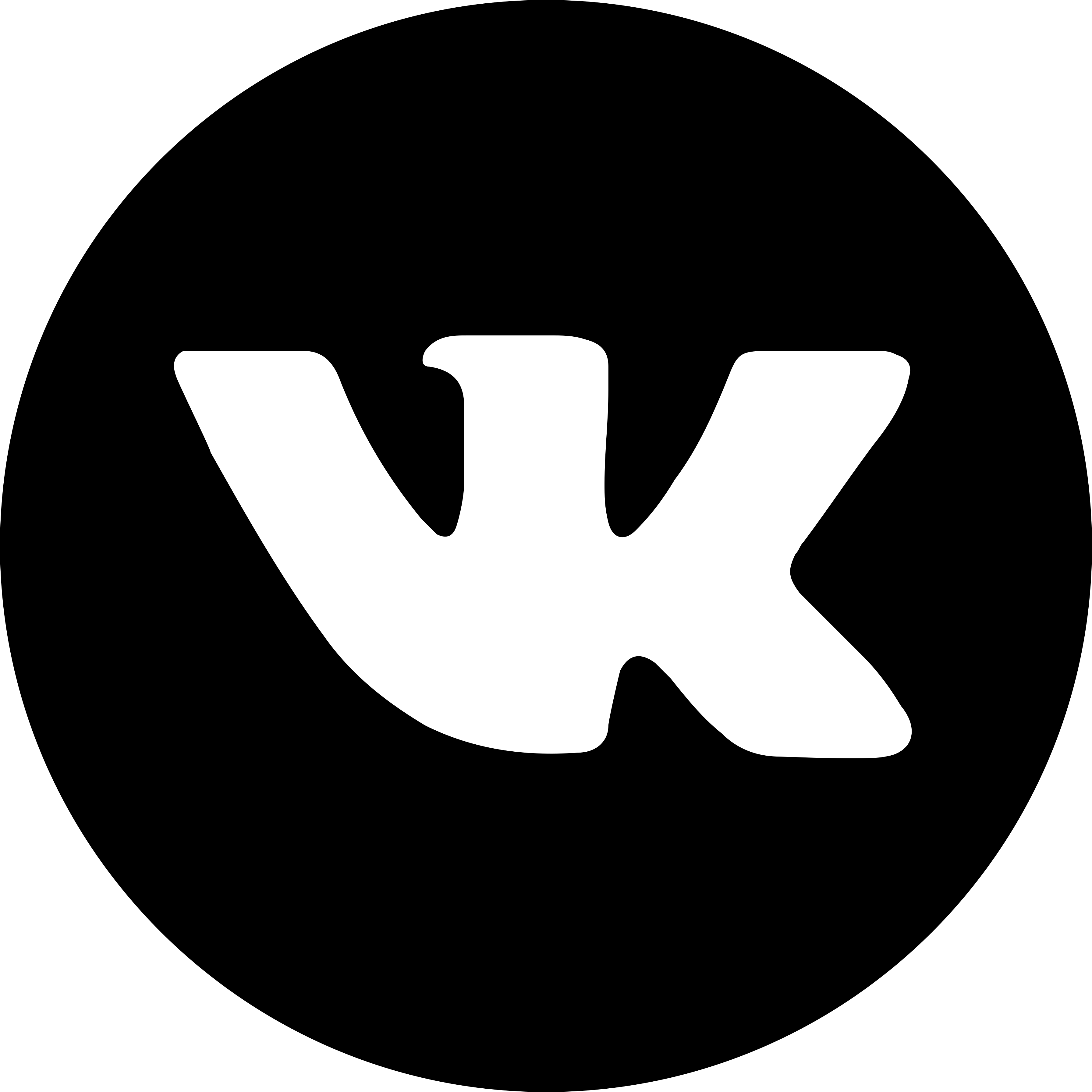- Психолог, психоаналитик
- Доктор философии по психологии (Ph.D.)
- Член Нью-Йоркской Психоаналитической Ассоциации (Psychoanalytic Association of New York)

- Психолог, психоаналитик
- Доктор философии по психологии (Ph.D.)
- Член Нью-Йоркской Психоаналитической Ассоциации (Psychoanalytic Association of New York)
Прочтение с точки зрения нарратива о сиблингах и нелинейного роста
Перевод с англ. яз. С.К. Сливко
Я хочу продемонстрировать важность гибкости нарративов в фантазийных формациях на примере психологической траектории Ахиллеса в «Илиаде». Применение концептуальных формулировок, касающихся психоаналитического процесса развития, к взрослению Ахиллеса подталкивает меня к размышлениям об опыте сиблингов и его уникальной роли в психической жизни детей и подростков. По мере роста и развития способности к определенной гибкости самости и других структур, первоначальный опыт сиблингов — тяготеет он к агрессивности или к любящей заботе или чему-то промежуточному — может приобрести новые значения.
В этом контексте сюжетную линию Ахиллеса можно рассматривать как метафорическое описание непрерывных и дискретных паттернов роста. В связи с этим возникают интереснейшие вопросы: Какие контексты полезны для осмысления психологических изменений Ахиллеса? Стоит ли брать в расчет влияние диспозиционных предрасположенностей и значимость порядка рождения? Является ли его постепенно растущее эмпатическое отношение к врагу демонстрацией пластичности богатого воображения, которое реорганизует его смертоносный потенциал? Как детские, так и взрослые аналитики могут найти в шедевре Гомера богатую сокровищницу для обнаружения внутри своих пациентов потенциальных источников их движения вперед.
Полностью осознавая, что я исследую вымышленных персонажей, я руководствуюсь словами Джульет Митчелл (Mitchell, 2003.p.x) о том, что широкий спектр источников, включая литературные произведения, может пролить свет на темы, которые затрагивают социокультурные и психологические аспекты. Образ Ахиллеса в эпической поэме Гомера «Илиада» запечатлелся в нашем сознании как квинтэссенция греческого идеала трагического героя. Его история начинается с образа безжалостного, сверхчувствительного греческого воина, который с яростью реагирует на мнимые и реальные оскорбления. Он — вечный плохой мальчик, который никогда не подчинится греческому старейшине Агамемнону, безжалостному самодержцу и самодуру, или, образно говоря, старшему брату. Но по ходу поэмы Ахиллес претерпевает психологическую метаморфозу, которая позволяет ему отстраниться от собственной боли и протянуть руку врагу — другому старшему мужчине/ старшему брату — пережившему тяжелую утрату. Таким образом, читатель становится свидетелем опыта, в котором переживание горя является точкой входа в человеческие отношения и это делает возможным существование цивилизации.
Я бы хотела сфокусировать свои размышления, используя призму нелинейного аспекта процесса развития, который Зигмунд Фрейд описал в 1905 году. В частности, я хочу продемонстрировать важность гибкости нарратива в фантазийной жизни, как одного из аспектов, который помогает детям продвигаться на новые уровни развития. Когда мы учитываем неизбежное развитие психологической организации и ее структур, то очевидно, что по мере этого развития, изначальный опыт отношений с сиблингом — тяготеет он к агрессии, или наоборот к заботе или к чему-то среднему — обретает новые смыслы и новые формы адаптации (Abrams, 2001; Abrams and Solnit, 1998; Neubauer, 1984; Hartmann and Kris, 1945; A.Freud, 1965, 1974, 1976).
Силы, которые влекут Ахиллеса по этим вехам, усиливаются до тех пор, пока не достигнут кульминации в человеческом «Я», которое сможет протянуться над этой пропастью и постигнуть боль разрушенного внутреннего мира своего врага.
В данном контексте сюжетную линию Ахиллеса можно рассматривать как метафорическое описание дискретного роста. Как нам понимать роль заботливого отношения Ахиллеса к Патроклу, которое вскоре способствовало изменениям? В каких контекстах нам рассматривать это изменение? Стоит ли брать в расчет влияние диспозиционных предрасположенностей? А значимость порядка рождения? Является ли его постепенно развивающееся эмпатическое отношение к врагу демонстрацией пластичности богатого воображения, которое реорганизует его смертоносный потенциал?
Также я хотела бы обратить внимание на интерпретацию драматических персонажей «Илиады» как двойников-сиблингов Ахиллеса, которые вплетены в концепцию нелинейного роста. Ахилл, Патрокл (двоюродный, а также сводный брат Ахилла), Гектор, Агамемнон и Приам могут рассматриваться как участники братских уз. Ведущие аспекты произведения Гомера прямо раскрывают набор формулировок (Mitchell, 2003), относящийся к сиблинговым грандиозным и нарциссическим интересам Самости, кровожадности и хладнокровной ненависти сиблинга, которые направлены на Гектора и старейшину Агамемнона. Однако, в то же время Ахиллес выражает целый ряд противоположных чувств — глубокой любви и товарищества — по отношению к своему любимому сводному брату Патроклу. Силы, которые влекут Ахиллеса по этим вехам, усиливаются до тех пор, пока не достигнут кульминации в человеческом «Я», которое сможет протянуться над этой пропастью и постигнуть боль разрушенного внутреннего мира своего врага. Эта трансформация, этот скачок, отражает достижение им глубокой эмпатической заботы, что является колоссальным достижением.
ИСТОРИЯ
Теме сиблингов в «Илиаде» уделено немало внимания. Фактически, именно история детства Патрокла настраивает читателя на бесконечную драму убийства и наказания, которая будет проходить, как нить Ариадны, сквозь эпическую поэму. Не сразу в своем повествовании Гомер сообщает нам эту критически важную информацию. Только в Песне 23 мы узнаем о признании Патрокла в непреднамеренном убийстве друга детства. Отец Ахиллеса, Пелей, сжалился над бездомным мальчиком и привел его в свою семью, где отношения кузенов стали действительно братскими. История двух кузенов, или, по моему мнению, история их братских отношений содержит и тонко скрывает многочисленные отсылки как на вертикальные, так и на горизонтальные перспективы к семенам эдиповой страсти и ненависти, соперничества как по вертикальной, так и по горизонтальной осям, желания смены пола, желания смерти и убийственный гнев, грандиозные фантазии и всемогущие стремления. И все же, этих мужчин также объединяет братская связь, которая является чем-то большим, чем сумма всех этих элементов. Прочные узы верности, товарищества и любви бросаются в глаза, когда два «брата» противостоят своему заклятому врагу Гектору, который легко помещается на место «плохого» брата. Его персонажа можно рассматривать как locum tenens (поле битвы), где разыгрывается их коллективное соперничество и ненависть, направленные друг на друга.
События «Илиады» происходят через девять лет после Троянской войны. Греки разгромили город, находившийся под правлением Трои, и Агамемнон берет в качестве добычи прекрасную девушку Хрисеиду; Ахиллес берет другую девушку — Брисеиду. Отец Хрисеиды молится Аполлону, просит помочь ему исправить эту несправедливость, Аполлон отвечает и насылает чуму, которая поражает греческих воинов. Агамемнон отпускает девушку, возмещая ущерб отчаявшемуся отцу, но возмущен этой потерей и настаивает, чтобы Ахиллес передал Брисеиду ему. Теперь настала очередь Ахиллеса впасть в ярость: оскорбленный кражей Агамемнона, он высвобождает свой яростный гнев: отказывается сражаться за ахейцев, прекрасно зная последствия. Только так он чувствует, что греки поймут его ценность. Действительно, греки ослаблены отсутствием Ахиллеса, и в результате доблестный вождь Трои Гектор, сын Приама, загоняет их обратно на оставленные у берега корабли. Кажется, что все потеряно, но Патрокл, любимый друг Ахиллеса, находит его, умоляя его снова вступить в войну и положить конец наказанию Агамемнона и ахейцев. Ахиллес отказывается сам участвовать в битве, но идет на компромисс: позволяет Патроклу надеть свои доспехи, когда тот вступает в бой. Троянцев оттесняют от кораблей, но Патрокл убит Гектором, который к тому же снял с него доспехи Ахиллеса и надел на себя. Ахиллес охвачен горем из-за потери своего дорогого друга и в слепой ярости бросается в битву, жаждущий крови, желая жестоко отомстить за смерть Патрокла. Боги предсказали, что Ахиллес найдет Гектора и убьет его; но за этим вскоре последует и его собственная кончина. После того, как Ахиллес убивает Гектора, он привязывает его тело к своей колеснице и объезжает вокруг могилы Патрокла. Погребальные игры проводятся как величественная дань уважения павшему герою. В течение девяти дней Ахиллес унижает тело Гектора, таская его труп во время празднований.
Исполняя волю богов о погребении Гектора, Приам, сопровождаемый и защищаемый Гермесом, рискуя собственной жизнью, пробирается в лагерь греков поздно ночью. Он находит Ахиллеса и умоляет его вернуть ему тело сына. В своей тоске он вызывает в воображении Ахиллеса образ его собственного отца Пелея — одинокого и разлученного со своим сыном — проводя параллель между стремлением обоих отцов снова увидеть своих сыновей. Ахиллес поражен воображаемой картиной своего собственного скорбящего отца и обращается к Приаму с состраданием по поводу его тяжелой утраты. Ахиллес достигает глубокого эмоционального понимания своего врага и возвращает ему тело Гектора. Наконец между враждующими сторонами объявляется временное перемирие для проведения мирных похорон «конеборного Гектора тела».
БРАТСТВО АХИЛЛЕСА И ЕГО КОНТЕКСТЫ
Текст Гомера предлагает несколько сюжетных линий для Ахиллеса (Abrams, 2011). Они проявляются либо в живом взаимодействии с другими персонажами, либо в собственном безмолвном воображении Ахиллеса. Эти сюжетные линии соответствуют базовым фантазийным конфигурациям: некоторые даже демонстрируют смесь инверсий и парадоксов, которые живут в нем бок о бок.
Первый нарратив, который оживает в поэме, обращается к наиболее популярной интерпретации личности Ахиллеса: его роли разъяренной жертвы жестокого Агамемнона — фигуры отца/старшего брата. В Песне 1 Ахиллес обвиняет Агамемнона в том, что он забросил свои обязанности генерала аргивян, а также в жадности и робости:
«Эх, ты, в бесстыдство одетый, о выгоде все твои думы!
Кто из ахейцев захочет твои предложения слушать –
В путь отправляться какой-то иль храбро с врагами сражаться?
Я за себя ли пришел, чтобы против троян-копьеборцев
Здесь воевать? Предо мною ни в чем не повинны троянцы.
Ни лошадей, ни коров у меня ведь они не угнали,
В счастливой Фтии моей, многолюдной, плодами богатой,
Нив никогда не топтали; безмерные нас разделяют
Горы, покрытые лесом, и шумные воды морские.
Нет, для тебя мы, бесстыдник, пришли, чтобы ты был доволен,
Честь Менелая блюдем и твою, образина собачья!
Ты ж за ничто это все почитаешь и все презираешь.
Больше всего нас приводят к победе средь сечи жестокой
Эти вот руки мои; но как только дележ наступает,
Дар богатейший – тебе. А я, и немногим довольный,
В стан свой к судам возвращаюсь, трудом боевым истомленный».[1]
В итоге Ахиллес создает воображаемую конструкцию, где есть тот, кто унижает и бесчестит, в противоположность тому, кто подчиняется. Агамемнон говорит о нем:
«Или вечные боги создали его копьеборцем
Лишь для того, чтобы бранными всех осыпал он словами?»
Речь его перебив, отвечал Ахиллес многосветлый:
«Трусом ничтожным меня справедливо бы все называли,
Если б во всем, что ни скажешь, тебе уступал я безмолвно.
Этого требуй себе от другого кого-нибудь; мне же
Ты не приказывай: я подчиняться тебе не желаю!...»
В этих отрывках проявляется сплав вертикальных и горизонтальных осей отношений: но что представляет особый интерес в этом цикле, так это медленно разгорающееся единоборство в игре с нулевой суммой[2]. Фаллоцентризм сказания подчеркивает взаимную ярость и чувство несправедливости, которые испытывают старший и младший братья. На читателя в полную силу обрушивается чувствительность Ахиллеса к намекам на неравенство, в то время как Агамемнон уверен в своем праве. Характерный стиль Ахиллеса нелегко объяснить, но может оказаться полезным рассмотрение ситуации в контексте диспозиционных вариантов. Является ли эта сверхчувствительность диспозициональной, характерологической особенностью, как могла бы задаться вопросом Анна Фрейд? Неужели граница между ним и Патроклом, его презираемым и любимым старшим сводным братом, частично установилась, лишь для того, чтобы создать психическую оболочку, которая окутала их вместе как единое целое? Была ли она достаточно эластичной, чтобы позволить им быть обособленными в другие моменты? Могла ли эта особенность способствовать отождествлению в фантазии с отверженным, униженным Патроклом, с которым плохо обращались в его общине, тем самым подготавливая почву к интенсивности переживания нападения Агамемнона. Использовал ли Ахиллес роль Патрокла как старшего брата в качестве фигуры, которая стимулировала и помогала его продвижению вперед? Если Патрокл был паладином и победителем в игре, мог ли Ахилл соперничать с этим старшим мальчиком, завидовал ли его силе или обнаружил, что завидует его статусу несмотря на то, что он не был связан с ним кровными узами? Если да, то можем ли мы представить Патрокла в роли стимула для развития более младшего Ахиллеса? Идентифицировал ли себя Ахиллес с великодушной ролью своего собственного отца, принявшего бездомного мальчика Патрокла, так контрастирующего с образом Агамемнона, в чей адрес сыпались упреки Ахиллеса?
В моменты мечтаний Ахиллес погружается в представление о себе как о любящем брате-защитнике Патрокла — еще один нарратив. Это происходит в начале Песни 16, когда греки были разгромлены троянцами. В следующем кратком, но проницательно проработанном отрывке Ахиллес рисует себе образ Патрокла как ребенка, нуждающегося в родителе — Ахиллесе. Он внимательно рассматривает отчаяние на лице Патрокла, наблюдая за его приближением, и быстро воссоздает в воображении глубоко прочувствованную сцену. Она как будто переносят читателя в современную жизнь, используя прием быстрой перемотки. Кинематографичная и непосредственная в быстрых переключениях от чувства к чувству, она прекрасно передает образ малыша, переполненного чувствами:
Жалость взяла Ахиллеса, как только его он увидел.
Громко к нему со словами крылатыми он обратился:
«Что это так ты заплакан, Патрокл дорогой мой, подобно
Девочке малой, что бегом за матерью следует с плачем,
На руки просится к ней и за платье хватается крепко,
Смотрит в глаза, заливаясь слезами, чтоб на руки взяли.
Так же совсем, как она, проливаешь ты нежные слезы».
Герой берет на себя роль матери, утешающей плачущего ребенка Патрокла и, как ни странно, меняет пол Патрокла на женский, а затем уменьшает возраст этой девочки до младенческого. Конечно, можно по-разному интерпретировать эту воображаемую сцену: это кастрированный, униженный образ Патрокла и самого Ахиллеса в роли матери, который возникает в воображении? Или это — сложный портрет раненого, несчастного ребенка, но который тоже своенравно требует, даже настаивает, на том, чтобы получить любящую ласку своей взволнованной матери. Эта сцена несет в себе отпечаток изменчивой, биоморфной среды обитания воображения, где Ахиллес комфортно перетекает в разные Я, охватывающие гендерные и поколенческие полюса. Он — прирожденный оборотень. И все же мы не должны забывать, что на другом уровне Ахиллес — тоже ребенок, все еще страдающий от унижения Агамемнона. Его диспозиционная структура двигает его в направлении преобразования внешних стимулов в психические смыслы. Параллельно с этим горизонтальная ось превратилась в вертикальную.
В Песне 18 Ахиллес оплакивает смерть Патрокла. Здесь также просматривается изображение вертикальной направляющей, но на этот раз Ахиллес берет на себя роль отца-льва:
Меж тем мирмидонцы
Целую ночь провели над Патроклом в стенаньях и воплях.
Громкий плач между ними зачал Ахиллес быстроногий.
Другу на грудь положив к убийству привычные руки,
Тяжко стонал он, подобно тому как лев бородатый
Стонет, если охотник из зарослей леса похитит
Львят его малых, а он, опоздавши, жестоко тоскует,
Рыщет везде по ущельям, следов похитителя ищет,
Чтобы на путь набрести. И берет его ярая злоба.
Ахиллес охвачен горестными рыданиями. Гомер дает ему способ справиться с этими ошеломляющими и невыносимыми чувствами, превращая его в разъяренного зверя. В интерпретации, которая рассматривает диспозиционный вариант как способ облегчения страданий, появляется попытка регулирования аффекта, чтобы обуздать приливную волну эмоций: угрожающее родиться горе превращается в жгучую, кровожадную, слепую ярость отца-животного. В этот момент Ахиллесом движет необузданная, не признающая снисхождения месть убийце его «сына».
В другом же отрывке, который следует за смертью Патрокла, отцовское чувство Ахиллеса принимает человеческую форму: он воображает себя отцом, который сталкивается со смертью своего сына в день его свадьбы:
И ночь напролет Ахиллес быстроногий,
Из золотого кратера двуручного черпая чашей,
Землю вином поливал, и земля от вина увлажнялась.
Звал при этом душу он Патрокла друга.
Как горюет над сыном отец, его кости сжигая, –
Тяжкое горе принесшим родителям смертью до брака,
Так над другом Пелид горевал, его кости сжигая.
Медленным шагом, глубоко вздыхая, костер обходил он.
Этот спектр различных форм Я: от жертвы старшего отца/брата, до того, кто любит и уважает другого сиблинга, до воображаемого защитника этого сиблинга в человеческих и звериных формах, демонстрирует постоянно меняющиеся роли Ахиллеса в нарративах и Я-структурах. Это потрясающая творческая способность погружаться в полностью ощущаемый опыт других, проницаемость границы между собой и другими, которая пробуждает сочувствие и заботу с помощью создания фантазии. Может быть, эта способность была подпитана (не обязательно порождена) его положением единственного ребенка, несмотря на присутствие Патрокла в его жизни? Патрокл был братом, но все же совсем не братом. Если оставить в стороне идею о диспозиции и изобретательной творческий способности, наблюдаем ли мы что-то, что Ахиллес переживает как единственный ребенок?
КУЛЬМИНАЦИЯ: ВСТРЕЧА АХИЛЛА С ПРИАМОМ
Взаимоперетекающие воплощения Ахиллеса в образах сына, отца и брата проявляются ближе к концу поэмы после его судьбоносной встречи с отцом Гектора. Сопровождаемый Гермесом, Приам пробрался в лагерь греков, чтобы попросить Ахилла вернуть ему тело сына.
С захватывающей остротой Приам представляет себе образ отца Ахиллеса, Пелея, одинокого, напуганного неподвластными ему силами, цепляющегося за иллюзию, что его единственный сын вернется к нему домой. Затем он возвращается к своим собственным чувствам:
О, я — несчастный, несчастный! Родил я сынов превосходных
В Трое широкой, — из них мне, увы, никого не осталось!
Приам проводит четкое различие между Пелеем и самим собой: Пелеем — отцом, чей сын жив и сидит перед ним, и им самим — отцом, который потерял своих сыновей — последнего от руки Ахиллеса. Затем следует то, что может быть самым трогательным моментом всей поэмы: Приам делает немыслимый жест:
Сжалься, Пелид, надо мною, яви уваженье к бессмертным,
Вспомни отца твоего! Я жалости больше достоин!
Делаю то я, на что ни один не решился бы смертный:
Руки убийцы моих сыновей я к губам прижимаю!
Приам просит Ахиллеса видеть его отдельно, «каким он есть»; и все же, как это ни парадоксально, в то же время настаивает на том, чтобы тот «вспомнил своего собственного отца».
Плакать тогда об отце захотелось Пелееву сыну.
За руку взяв, от себя старика отодвинул он тихо.
Плакали оба они. Припавши к ногам Ахиллеса,
Плакал о сыне Приам, о Гекторе мужеубийце.
Плакал Пелид об отце о своем, и еще о Патрокле.
Стоны обоих и плач по всему разносилися дому.
Действительно, в той же мере как Ахиллес видит старика по-своему, он чувствует такую же настоятельную потребность «мягко отодвинуть его» с переднего плана своего сознания. Он должен уступить место переживанию «нахлынувших воспоминаний», которое теперь занимает центральное место в этой психической драме. Необыкновенные картины, которые рисует Гомер, содержат ясные образы отца, сына, любимого друга–приемного брата, они переполняют его глубокой скорбью, поскольку преобладают в воображении Ахиллеса. Детско-родительский аспект перекрывается и переплетается с сиблинговым, когда он и Приам «уступают горю» и переживают свободное падение в глубокий колодец утраты.
Одновременно с этим на другом уровне Ахиллес, кажется, приписывает голос своего доброжелательного отца страдающему Приаму, который умоляет Ахиллеса отдать тело его мертвого ребенка, чтобы он мог дать ему последнее пристанище. Еще больше открываясь новым неожиданным возможностям посмотреть глазами Приама, Ахиллес достигает удивительного прозрения, осознавая, что стал виновником ужасных страданий и невыносимого горя старика. Сначала он говорит о невзгодах своего собственного отца:
Но и ему приложил злополучие бог: не имеет
В доме своем он потомков, кто был бы наследником царства.
Сын у него лишь один, краткожизненный; даже и нынче
Старости я не покою его. Далеко от отчизны
Здесь я сижу, и тебя и твоих сыновей огорчая.
А затем старается утешить отца, оставшегося без сына, и советует:
«Так овладей же собой, без конца не круши себя скорбью.
Пользы немного тебе от печали по сыне убитом.
Мертвый не встанет; скорей тебя новое горе постигнет».
Почти сразу же Ахилл вспоминает о растерзанном трупе Гектора и желает, чтобы с ним обращались достойно, он хочет избежать того, чего опасается: гневной реакции Приама и собственной склонности реагировать яростью. Изначальная способность Ахиллеса понимать другого приводит к еще большей глубине заботы о другом, а также к осознанию своей собственной уязвимости — предрасположенности к смертоносному нападению на другого. В соответствии с наставлениями Сократа[3] он «знает себя»: он привносит в этот момент острое самоосознание, которое поощряет и защищает его желание исцелить и загладить свою вину.
Он же, позвавши рабынь, повелел им обмыть и умаслить
Гектора тело, но прочь отнеся, чтоб Приам не увидел.
Он опасался, чтоб гневом не вспыхнул отец огорченный,
Сына увидев, а сам он внезапно в ответ не вскипел бы
И не убил бы его, приказанье нарушивши Зевса.
Это похоже на то, как если бы щедрое сердце Пелея, приютившего бездомного ребенка, возродилось бы в тот миг, когда Ахиллес предоставил себя в качестве пристанища, пусть и ненадолго, старику, потерявшему так много.
Внезапно Ахиллеса застает врасплох старое чувство, которое противоречит его новообретенному росту. Когда он поднимает тело Гектора на руки и кладет его на носилки, он представляет себе возможность того, что Патрокл может разозлиться из-за сострадания к отцу своего убийцы.
Не обижайся, Патрокл, если даже и в доме Аида
Ты вдруг узнаешь, что я многосветлого Гектора тело
Отдал отцу: не ничтожными он заплатил мне дарами.
Долю достойную я и тебе из них выделю в жертву!
Ахиллес отвечает этому восставшему призраку со зрелостью, которая не подчинится древним узам сиблинговой связи, настаивающим на собственничестве и запрете на существование вторгающихся иных. Он разрушает ошибочное детское убеждение, что любовь конечна и подчинена законам материального мира: любви достаточно, чтобы окружить Приама так же, как и Патрокла, даже в смерти. Как читатели, мы стали свидетелями строительства моста эмпатии: Ахиллес сам протянул его.
Эту перемену можно интерпретировать как трансформационную, в которой Ахиллес перешел в новую иерархическую организацию, которая поддерживает новые способности к объектным отношениям. Как говорилось ранее, более сложные психические процессы, необходимые для достижения зрелости, и возросшая способность отказываться от нарциссического и кровожадного мировоззрения поднимают личность до новой психологической организации, в которой способность отдавать приобретает новый смысл и ценится сама по себе. Как следствие, связь с другими людьми и более широким окружением становится частью новой, воссозданной личной системы ценностей.
С другой стороны, можно было бы выдвинуть иное предположение, все же связанное с предыдущими. Может ли изменение в Ахиллесе быть результатом высвобождения подавленной или заглушенной склонности к заботе о других? Мог ли контакт с Приамом создать возможность для пересборки в области чувств и способов установления связи с другим, которая в дальнейшем привела к непредвиденным результатам? То, что произошло с Ахиллесом, можно было бы описать как трансформацию, которая произошла не в результате введения нового иерархического порядка, а скорее, как новый способ интеграции качеств, которые до этого момента не осознавались.
Этот опыт раскрыл потенциал, который был неотъемлемой чертой личности Ахиллеса, о чем свидетельствуют его фантазии в начале повествования. Такой потенциал можно было бы классифицировать как врожденный, принимая в расчет восприимчивость к чувствам других. Возможно, именно способность Ахиллеса к саморефлексии, даже в экстремальных ситуациях, позволила ему защитить Приама от собственного импульсивного желания наброситься на него.
Можно сформулировать окончательную точку зрения. Несмотря на фаллоцентрический уклон в психоаналитической теории, мальчики обладают способностью к сопереживанию и заботе о других, которые могут быть упущены из виду социальными установками (Balsam, 2008). Демонстрирует ли эта история ограниченность таких фаллоцентрических взглядов на отношения сиблингов, в которых обычно воинственный спектр рассматривается как преобладающий? Создало ли сближение Приама и Ахиллеса благоприятные условия для того, чтобы ранимость, воспоминания и эмоции, которые были пробуждены в этой заключительной интерлюдии, позволили расцвести глубоко прочувствованной эмпатической реакции Ахиллеса, которая традиционно воспринимается как воплощение женских свойств? Психологическое путешествие, которое Ахиллес совершает в этой поэме, открывает путь к восприятию метафор риторических приемов, основанных на гендерной принадлежности. Это путешествие также охватывает способы, с помощью которых мужчина имел дело с конфликтом: и те из них, которые были построены на ненависти, и те, которые были построены на любви.
Ахиллес перешел в новую иерархическую организацию, которая поддерживает новые способности к объектным отношениям. Как следствие, связь с другими людьми и более широким окружением становится частью новой, воссозданной личной системы ценностей.
ОБСУЖДЕНИЕ
По мере того, как Ахиллес развивает свою историю в «Илиаде», он экспериментирует со все более сложными теориями разума, которые позволяют ему сопереживать другим (Aragno, 2008; Fonagy and Target, 2007; Gergely and Watson, 1996). Фантазирует ли Ахиллес о том, чтобы быть отцом-львом на охоте, стремящимся отомстить за убийство своих детенышей, или обычной человеческой матерью, которая мечется между исполнением своих желаний и потребностью утешить страдающего ребенка, мы можем предположить, что эти образы возникли из вытесненных ранее установок и характерных особенностей, которые и стали составляющими того, что сделало возможным пересборку Я.
В целом, можно сказать, что эти сюжетные линии, составляющие часть психической структуры Ахиллеса до его трансформирующего диалога с Приамом, являются нераспустившимися бутонами трансформационных изменений, которые не расцветали и не приобретали новую форму до самого завершения поэмы. Даже диспозиционная склонность Ахиллеса к нарциссическому пренебрежению могла создавать почву для его исключительной чувствительности к чужим ранам, чужим страданиям. Это достижение также способствует освобождению его от фаллоцентрического мышления, выражавшегося в вызывающем поведении, неповиновении и насилии. Свежесть и прорывная креативность заключительной части поэмы, которая включает в себя традиционно присущие женщинам черты заботы, способности контейнировать и устанавливать связи, разрывает гендерные коды, обычно ассоциирующиеся с сильным мужским идеалом.
Способность Ахиллеса воспринимать отца/старшего брата Приама по-новому гуманизирует его и приводит в лоно сообщества и связывает с другими. То, что происходит в ходе поэмы Гомера, — это формирование структур, которые достигают кульминации в «новых формах» (Митчелл, 2003), и возникают в процессе преобразования одного в другое. Диспозиционные и конституциональные аспекты, которые включают заботу о других и готовность к сотрудничеству, а также достаточную гибкость Я и прочих границ, будут способствовать этому росту. Таким образом, они укрепляют социальные связи и социокультурные контакты, которые формируют мир других людей.
Именно неудачи в ожидаемых дискретных изменениях на пути развития в полной мере демонстрируют маскулинно-ориентированные диспозиционные варианты и склонности характера. Они постоянно давят на индивида в ходе его движения во взрослую жизнь, они могут нарушать развитие здоровых и заботливых отношений, которые зарождаются внутри семейной семьи между родителями и детьми, между братьями и сестрами.
БИБЛИОГРАФИЯ
- Abrams, S. (2001). Summation—unrealized possibilities: Comments on Anna Freud’s Normality and Pathology in Childhood. Psychoanalytic Study of the Child. 56:105–119.
- Abrams, S., and Neubauer, P. B. (1976). Object orientedness: The person or the thing. Psychoanalytic Quarterly 45:73–99.
- Abrams, S., and Solnit, A. (1998). Coordinating developmental and psychoanalytic processes. Journal of the American Psychoanalytic Association 46:85–104.
- Aragno, A. (2008). The language of empathy. Journal of the American Psychoanalytic Association 56:713–740.
- Balsam, R. (2008). Fathers and the bodily care of their infant daughters. Psychoanalytic Inquiry 28:60–75.
- Fonagy, P., and M. Target (2007). Playing with reality: IV. A theory of external reality rooted in intersubjectivity. International Journal of Psychoanalysis. 81:917–37.
- Freud, A. (1965). Normality and pathology in childhood: Assessments of development. In The Writings of Anna Freud, vol. 6. New York: International Universities Press.
- Freud, A. (1974). A psychoanalytic view of developmental psychopathology. In The Writings of Anna Freud, vol. 8, pp. 57–74. New York: International Universities Press.
- Freud, A.. (1976). Psychopathology seen against the background of normal development. In The Writings of Anna Freud, vol. 8, pp. 82–95. New York: International Universities Press.
- Gergely, G. and Watson (1996). The social biofeedback model of parental affect-mirroring. International Journal of Psychoanalysis 77:1181–1212.
- Hartmann, H., and Kris, E. (1945). The genetic approach to psychoanalysis. Psychoanalysis of the Child 1:11–30.
- Homer (1990). The Iliad. Translated by Robert Fagles. New York: Penguin Books.
- Mitchell, J. (2003). Siblings. Cambridge, UK: Polity Press.
- Neubauer, P. (1984). Anna Freud’s concept of developmental lines. Psychoanalytic Study of the Child 39:15–27.
[1] Цитаты из «Илиады» Гомера даны в переводе В.В. Вересаева (прим. переводчика)
[2] Антагонистическая игра или игра с нулевой суммой (англ. zero-sum game) — термин теории игр. Антагонистической игрой называется некооперативная игра, в которой участвуют два или более игроков, выигрыши которых противоположны. Если один выиграл, другой обязательно проиграл. (прим. переводчика)
[3] Сократ придавал особое значение фразе «Познай самого себя», начертанной на стене дельфийского храма Аполлона, что неоднократно отражено в диалогах Платона. (прим. ред.)