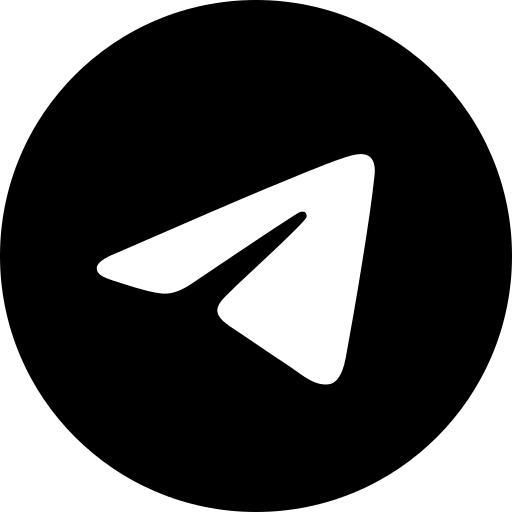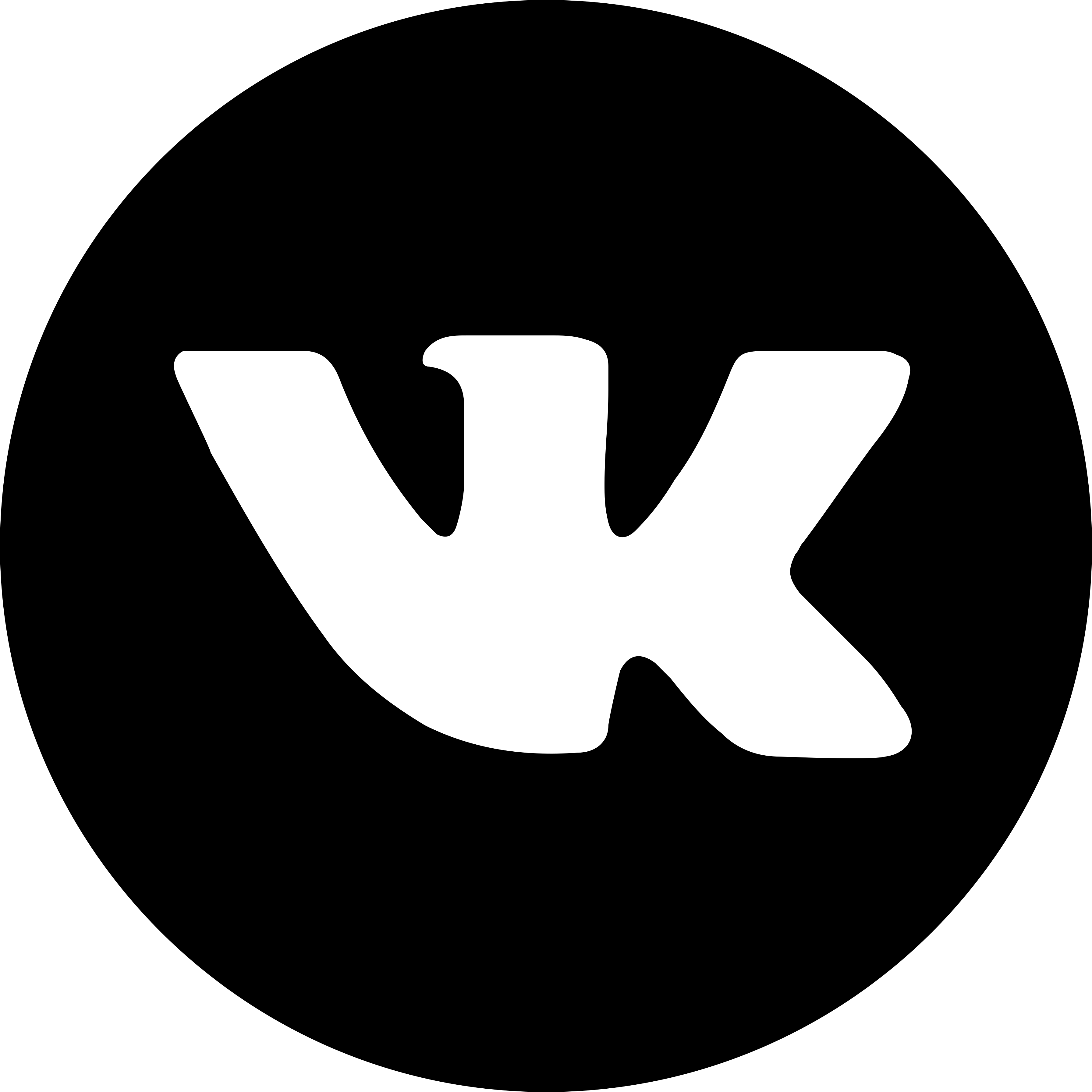- Психолог, психоаналитик
- Доктор философии по психологии (Ph.D.)
- Приглашённый профессор психоаналитической теории и терапии в Высшей школе прикладной и профессиональной психологии Ратгерского университета
- Бывший президент отделения психоанализа в Американской психологической ассоциации
- Внештатный редактор журнала «The Psychoanalytic Review» и член редакционной коллегии журнала «Psychoanalytic Psychology»
- Автор четырёх книг, три из которых посвящены психодиагностике и одна практике психотерапии. На русском языке изданы три: «Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе», «Психоаналитическая психотерапия: Руководство практика» и «Формулирование психоаналитического случая».
- МакВильямс формирует особую парадигму восприятия профессии терапевта

- Психолог, психоаналитик
- Доктор философии по психологии (Ph.D.)
- Приглашённый профессор психоаналитической теории и терапии в Высшей школе прикладной и профессиональной психологии Ратгерского университета
- Бывший президент отделения психоанализа в Американской психологической ассоциации
- Внештатный редактор журнала «The Psychoanalytic Review» и член редакционной коллегии журнала «Psychoanalytic Psychology»
- Автор четырёх книг, три из которых посвящены психодиагностике и одна практике психотерапии. На русском языке изданы три: «Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе», «Психоаналитическая психотерапия: Руководство практика» и «Формулирование психоаналитического случая».
- МакВильямс формирует особую парадигму восприятия профессии терапевта
В статье я на собственном примере расскажу о влиянии моего личного психоанализа на мою клиническую работу. Я не утверждаю, что мой опыт показателен; он, безусловно, уникален для меня, но некоторые аспекты моего личного пути в роли пациентки и его влияние на мою работу в качестве терапевта, согласуются с тем, что выяснили Дж. Геллер, Дж. Норкросс и Д. Орлинский о связях между получением и предоставлением психотерапии.
Я впервые заинтересовалась психоанализом в 1965 году, будучи студенткой Оберлинского колледжа (США, г. Оберлин, штат Огайо). Мой преподаватель политологии посоветовал мне написать курсовую по политической теории, имплицитно присутствующей в книге Фрейда «Недовольство культурой» (1930). Книга меня захватила. Я начала читать другие работы Фрейда и популярных в то время психоаналитиков, таких как Эриксон (например, 1950), Фромм (например, 1941), Хорни (например, 1950), Маркузе (например, 1968), Норман О. Браун (например, 1959), Ролло Мэй (например, 1967), и Теодор Райк (1948, 1953, 1957a, 1957b). Работы последнего оказали на меня наиболее сильное влияние.
Взгляды Райка (Reik) пришлись мне по душе, потому что он, говоря о половых различиях, не подразумевал, что женская психология — это своего рода отклонение от мужской нормы. Такую точку зрения я не встречала ни у кого в период, предшествовавший новой волне феминизма. (Даже Оберлин, первый колледж, принимавший на обучение женщин наравне с мужчинами, придерживался неписаного правила: профессорским женам, нередко обладавшим блестящим умом, которому позавидовал бы доктор наук, не разрешалось преподавать, кроме как в должности адъюнктов). После того, как я вышла замуж, окончила университет, выбрала карьеру клинического психолога и переехала в Бруклин, я написала доктору Райку и спросила, сможет ли он со мной встретиться и дать мне совет насчет моей карьеры. Пока это было возможно, я хотела лично встретиться с одним из тех, кто был близок к Фрейду.
Райк любезно согласился. Он отнесся к нашей встрече, скорее, как к собеседованию и посоветовал мне начать личную терапию. Он направил меня в клинику при Национальной психологической ассоциации психоанализа (NPAP) — учреждение, которое он сам основал после того, как его не принял Нью-Йоркский психоаналитический институт из-за того, что его докторская диссертация была по психологии, а не по медицине. В то время я не знала подробностей этого досадного инцидента; мне было двадцать три года, мне нравились идеи Райка, и я знала, что он был протеже Фрейда.
Начать личную терапию показалось мне целесообразным. Я жила в Нью-Йорке, и там можно было найти опытного специалиста за приемлемую цену. Плата в пятнадцать долларов за сессию у аналитика, к которому меня направил интервьюер из клиники, меня вполне устраивала. Я подошла к терапии ответственно, как к процессу, необходимому в профессиональных целях. Я предполагала, что в то время другие подходы уже вытеснили собственно психоанализ, но по такому же принципу, по которому я изучала сначала классическую музыку, а потом поп-музыку, и сначала латынь, а потом французский, я решила, что сначала нужно узнать, что такое оригинальная парадигма. Хотя я и не ощущала никакой потребности в личной терапии, потрясающий терапевтический эффект от личного анализа стал тем фактором, который в итоге определил мой карьерный путь психолога и психоаналитика.
Мои неоднократные опасения по поводу того, что мой мягкий социальный работник/аналитик-еврей окажется моим сердитым отцом с правыми политическими убеждениями, стали для меня важным уроком, показавшим всю силу переноса: умом я понимала маловероятность того, что Лу придерживался тех же взглядов, что и мой отец, но я не могла избавиться от этого страха в течение многих месяцев.
Несомненно, я бессознательно знала, что терапия мне нужна. Я считала себя эмоционально здоровой личностью и описывала себя как человека, у которого было счастливое детство, и это представление было недалеко от истины. Тем не менее, я страдала от множества непрожитых потерь, включая смерть моей матери от рака, когда мне было девять лет, и смерть моей любимой мачехи от той же самой болезни, когда я училась в колледже на третьем курсе. Мой отец, у которого (как я позже узнала) было повреждение головного мозга вследствие перенесенного в детстве энцефалита, был любящим, преданным и в высшей степени порядочным человеком. Однако, он видел все только в черном или белом цвете, у него случались сильные приступы ярости, и он вычеркивал людей из своей жизни, если они не оправдывали его ожиданий. Я никогда не проявляла явного непослушания: я считала, что должна быть исключительно «хорошей», иначе отец мог меня отвергнуть. Чтобы не обременять свою измученную семью, а также из-за того, что моя мать, понимая, что скоро умрет, целенаправленно воспитывала во мне самостоятельность, я стала настолько контрзависимым человеком, что не могла проявить слабость или показать, что нуждаюсь в чем-либо. Я бессознательно воспринимала мужчин как привлекательных, но опасных, а женщин как любящих, но слабых, и это стало серьезной проблемой для моего представления о себе.
Хотя я и не ощущала никакой потребности в личной терапии, потрясающий терапевтический эффект от личного анализа стал тем фактором, который в итоге определил мой карьерный путь психолога и психоаналитика.
Мне повезло с аналитиком, к которому меня направили в NPAP. Лу Берковиц (Lu Berkowitz) оказался добросердечным, умным, гибким и лишенным всякой потребности доминировать. Психоанализ не был его основной работой, он был исполнительным директором Образовательного альянса (Educational Alliance) — социального учреждения в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена. Я была очень рада, что Лу, в отличие от моего отца, очевидно, не имел ничего против моих левых политических взглядов, хотя я смогла принять этот корректирующий опыт лишь после того, как долгое время испытывала настоящий ужас, представляя себе, что Лу начнет с презрением интерпретировать мои политические предпочтения как «отыгрывание» или как «эдипальный протест» (элементы которого действительно проявлялись, но, к счастью, он, по-видимому, придерживался мнения, что все меняется, и что судить о политической позиции нужно по ее возможным последствиям, а не по тому, какие психические факторы повлияли на ее формирование). Мои неоднократные опасения по поводу того, что мой мягкий социальный работник/аналитик-еврей окажется моим сердитым отцом с правыми политическими убеждениями, стали для меня важным уроком, показавшим всю силу переноса: умом я понимала маловероятность того, что Лу придерживался тех же взглядов, что и мой отец, но я не могла избавиться от этого страха в течение многих месяцев.
Лу не вел себя так, как будто знал больше, чем я (хотя по прошествии времени я понимаю, что часто именно так и было), и он, как правило, интерпретировал очень мало, вместо этого побуждая меня говорить все, чувствовать свои чувства, исследовать сны, разбираться в себе. Его уважительная манера сама по себе оказывала целительное воздействие. Из-за склонности моего отца к высказываниям, не подлежащим обсуждению, я была (и сейчас остаюсь) сверхчувствительной к тому, что со мной разговаривают свысока люди, облеченные властью. Многие воспринимают аналитическое молчание как отвержение, но я воспринимала его как знак равноправия, оно укрепляло мою уверенность в собственных силах и поддерживало мою веру в способность быть честной с самой собой радикальными, освобождающими способами.
Моя внутренняя динамика в основном истерична, и поэтому относительно свободный стиль Лу мне как раз подошел. Фрейд изначально разработал психоанализ для лечения женщин с истерией, большинство из которых мы бы сейчас отнесли к диссоциативным личностям и которые бессознательно считали себя слабыми и подвергались постоянному риску жестокого обращения со стороны мужчин, облеченных властью. Он серьезно относился к их субъективному опыту и старался извлекать из него уроки (Breuer & Freud, 1895/1955). Хотя, на мой взгляд, даже в таком случае он не всегда все понимал правильно (и знал это, о чем свидетельствует его известное замечание о том, что он не может понять, чего хотят женщины). Для меня было ценным то, что он признавал ограниченность своего понимания, а не изображал из себя всеведущего мудреца, и я была благодарна моему аналитику за то, что он разделял позицию Фрейда относительно готовности учиться у своих пациентов.
Без моей личной терапии мой брак, безусловно, распался бы. И у меня, скорее всего, не было бы моих дочерей. В моей карьере также было бы гораздо больше саморазрушительных разыгрываний.
Моя терапия продолжалась в течение четырех с половиной лет по три сессии в неделю и завершилась естественным образом, на основе взаимного согласия о том, что я была готова проверить, достаточно ли я интернализировала процесс, чтобы дальше обходиться своими силами (см. Geller, 2005, о границах и интернализации). Я была поражена результатами нашей с Лу работы. Особенно, когда после назначения даты завершения терапии ко мне на некоторое время вернулись прежние симптомы, которые до этого так незаметно исчезли, что я забыла о постоянной тревоге, соматизации, оборонительном поведении и отыгрывании, которые когда-то считала просто частью жизни. Также я снова поразилась влиянию переноса на этапе завершения терапии: несмотря на то, что именно я подняла вопрос о завершении и предложила период в шесть месяцев на достижение этой цели, как только была определена дата, мне стали постоянно сниться сны о том, что моя мать умирает, или что отец выгоняет меня из семьи. Это был полезный урок, показавший пределы сознательной рациональности, особенно когда дело доходит до расставания. Я помню, как размышляла о том, что оставление (когда не ты уходишь, а тебя покидают) должно быть нашим самым ранним шаблоном для сепарации, поскольку мы становимся способными понять отделенность до того, как у нас появляется физическая возможность инициировать ее самостоятельно.
За время личной терапии я многое поменяла в тех сферах, о которых говорила выше: мое отрицание своей потребности в других смягчилось, моя эмоциональная жизнь стала источником радости и жизненной силы, от которых не нужно было сознательно отстраняться, и мои внутренние представления о гендере и власти значительно изменились.
Я пришла к глубокому осознанию в общепринятых понятиях эпохи, предшествующей деконструкционизму, что женственности может быть присуща сила, а мужественности теплота и уязвимость. Без моей личной терапии мой брак, безусловно, распался бы. И у меня, скорее всего, не было бы моих дочерей (я пришла к пониманию, что бессознательно приравнивала материнство к смерти, и несмотря на то, что мне нравилось заботиться о других, я находила бесчисленное множество рациональных объяснений тому, что не хотела детей). В моей карьере также было бы гораздо больше саморазрушительных разыгрываний.
В более поздние периоды своей жизни я проходила терапию еще у двух разных аналитиков, поскольку мой первый аналитик внезапно скончался через несколько лет после завершения моей терапии. Когда мне было за тридцать, я ходила раз в неделю в течение четырех лет к женщине-аналитику, медицинскому психологу, ориентированной на объектные отношения; и когда мне было за пятьдесят, я в течение года посещала психиатра-мужчину, специалиста в области сэлф-психологии. В обоих случаях я использовала кушетку, хотя сеансы проходили один раз в неделю, потому что на кушетке я чувствовала себя наиболее комфортно, так как на меня в меньшей степени воздействовало физическое присутствие аналитика (думаю, это характерно для очень чувствительных в плане межличностных отношений пациентов, особенно с истерической или шизоидной динамикой). И в той, и в другой терапии выходили на свет жизненные проблемы, которые не проявились во время моей первой терапии, и оба аналитика, несмотря на совершенно разные личные стили, очень мне помогли.
Но задача данной статьи показать, как личная терапия влияет на практику самого терапевта, поэтому позвольте мне перейти к тому, как, на мой взгляд, мой личный анализ повлиял на мою последующую клиническую работу.
Учитывая мои интуитивные внутренние опасения, несмотря на теплое и дружественное отношение моего аналитика, я усвоила на всю жизнь, что терапевт не может полностью контролировать то, как его воспринимают пациенты.
Первое, и, вероятно, самое важное, благодаря личному анализу я обрела веру в сам процесс анализа. Я буквально нутром знаю, что психотерапия исцеляет. Я полагаю, что передаю это убеждение своим клиентам не только устно, но и с помощью бесчисленных невербальных сигналов. В терапии большое значение имеет надежда, а моя надежда на терапию является искренней и глубокой.
Во-вторых, анализ помог мне понять сложные чувства, возникающие, когда находишься в роли клиента. Несмотря на мою браваду по поводу того, что я начинаю личную терапию исключительно в профессиональных целях, я была потрясена, обнаружив, что беспокоюсь, что кто-то увидит, как я захожу в кабинет аналитика. В первый раз, когда я легла на кушетку, в предвкушении и с уверенностью в том, что поступаю очень по-взрослому, я обнаружила, что дрожу как ребенок в тревоге за собственную безопасность. Я быстро поняла, какую эмоциональную власть давала моему аналитику его роль. Я чувствовала себя беззащитной, потерявшей контроль, уязвимой для критики и попыток меня пристыдить. А ведь я пришла в терапию не с целью вылечить какое-то «расстройство», поэтому я могла лишь представлять, насколько стигматизированными чувствовали себя другие.
Эти знания, полученные на собственном опыте, усилили мое сочувствие ко всем, кто находится в кресле пациента, и еще раз показали ценность доброжелательного отношения терапевта и его общения с пациентом на равных. В то же время, учитывая мои интуитивные внутренние опасения, несмотря на теплое и дружественное отношение моего аналитика, я усвоила на всю жизнь, что терапевт не может полностью контролировать то, как его воспринимают пациенты, и это стало своевременным уроком, умерившим мои представления о собственном всемогуществе и смирившим меня в профессиональном плане. Меня до сих пор удивляет, когда мои коллеги полагают, что просто вследствие их доброжелательного поведения и отношения, они станут «хорошими объектами» в глазах своих клиентов.
Личная терапия по-своему расширила мои способности к сопереживанию. Я начала медленно, болезненно осознавать свои слабые места, тщеславие, жадность, зависть, садизм и другие непривлекательные черты, которые можно было признать и исследовать только благодаря тому, что мой аналитик принимал их как данность. Я обнаружила в себе психотическую и пограничную, а также невротическую динамику. Я познакомилась со своим внутренним психопатом, нарциссом, драматизатором, интровертом и другими личностями, которые живут в каждом из нас. В то же время, я стала делать меньше обобщений относительно человеческой природы и больше ценить психологическое разнообразие, поскольку осознала тот факт, что, несмотря на сходство во внешнем поведении или проявлениях, другие люди часто сильно отличались от меня внутренне.
Терапия показала мне силу бессознательного сопротивления и то, как много терпения нужно, чтобы изменить шаблоны, давно ставшие привычными. Я на своем опыте знаю, как много смелости нужно, чтобы попробовать что-то новое, когда мозг готов взорваться от страха и тревоги. По мере того, как накалялся мой перенос, я начинала ценить силу аффекта, свободу, которая приходит, когда просто чувствуешь и говоришь об этом, а также то, что решающую роль в психологических изменениях играет понимание глубинных причин и взаимосвязей в эмоциональной сфере. В конечном счете, этот опыт помог мне справиться с собственной тревогой и реактивностью в те моменты, когда моих клиентов накрывал шторм аффекта. Благодаря личной терапии я, наконец, почувствовала себя спокойно в роли лидера, и если я становлюсь объектом сильных, насыщенных переносом чувств, которые неизбежно возникают по отношению к тем, кто занимает относительно влиятельную позицию, то теперь не принимаю это близко к сердцу.
Как человеку, который всегда готов интеллектуализировать, мне особенно повезло пройти через личный психоаналитический процесс до того, как я подробно узнала об аналитических теориях вмешательства; я могла чувствовать, что является действительно полезным, не имея за плечами предыдущего опыта рассмотрения этого в свете общепринятой парадигмы. Позднее, благодаря этому, я смогла реалистично оценить саму общепринятую парадигму.
Благодаря моим снам удалось выявить мою всеобъемлющую бессознательную уверенность в том, что именно моя опасная «плохость» и убила моих мать и мачеху. В ответ мой аналитик в шутку замечал, какой огромной силой мысли я, по-видимому, обладаю, и предлагал мне присоединиться к человеческой расе.
Я стала тонко чувствовать, как больно узнавать о себе то, чего раньше не замечала. Моя самооценка падала каждый раз, когда я усваивала новые знания, даже если эти знания были желанными. Опыт личной терапии научил меня обращать внимание на стыд и негодование моих клиентов, а не только на их признательность, когда я говорю что-то, что они находят новым и полезным. Во время собственного анализа я испытывала острое чувство уязвимости, когда пыталась убрать психологические защиты, которые теперь мне только мешали и которые в детстве поддерживали мою самооценку и обеспечивали мне чувство безопасности. Отказавшись от прежних способов самозащиты, я почувствовала себя сверхчувствительной, лишенной кожи, и словно оказалась на пределе возможностей воспринимать любую новую информацию о своих недостатках, слабостях и самообмане. В таком состоянии я часто вела себя реактивно и занимала оборонительную позицию (я благодарна своему мужу за его терпение). Мои яркие воспоминания об этом этапе вызывают во мне сострадание к клиентам и студентам, находящимся в подобном состоянии беззащитной реактивности.
Когда я осознала, что мои чувства, мысли и поведение основывались на бессознательных сценариях, я постепенно отпустила фантазии о своем всемогуществе, о которых раньше даже не подозревала. Так много из того, что я считала откровением о самой себе, оказалось рационализацией. Накопились доказательства того, что я была не властна над собственным разумом и что мои представления о собственной силе были искаженными. Благодаря моим снам удалось выявить мою всеобъемлющую бессознательную уверенность в том, что именно моя опасная «плохость» и убила моих мать и мачеху. В ответ мой аналитик в шутку замечал, какой огромной силой мысли я, по-видимому, обладаю, и предлагал мне присоединиться к человеческой расе. Учитывая, насколько важно, как мы теперь знаем, для терапевта избегать позиции всезнающего, признавать ошибки и работать сообща, этот смиряющий аспект моей личной терапии, вероятно, стал особенно ценным для моей дальнейшей практики.
Через сорок лет после того, как я завершила личную терапию и больше, чем через тридцать лет после смерти Лу, я продолжаю ежедневно обращаться к своему первому анализу. Бывает, что какой-то человек ставит под сомнение и обесценивает мою интерпретацию, и тогда я вспоминаю о тех временах, когда я сама реагировала также, и о том, что помогало мне восстанавливать равновесие. Бывает, что какая-то женщина, начинающая переживать травматичную историю, впадает в панику от того, что погружается в бездонную депрессию, и, поскольку я изнутри знаю, насколько исцеляющим и, в конечном счете, ограниченным по времени является процесс острого траура, я могу ее убедительно успокоить. Бывает, что я совершила ошибку и вынуждена признать это, и тогда я вспоминаю о том, как поступал мой аналитик, и мне становится легче. Его извинения за совершенную им ошибку были, по сути, ударом милосердия по моему болезненному предположению о том, что облеченные властью люди, особенно мужчины, не признают своих ошибок. Или, когда клиент предполагает, что какой-то мой комментарий вызван презрением или ненавистью, я вспоминаю, насколько терпелив был мой аналитик в работе с моими враждебными переносами, как он миролюбиво исследовал их, а не пытался рефлекторно «исправить» мои представления.
Возможно, самое сложное в работе терапевта — это чувствовать, что тебя часто воспринимают в искаженном виде, когда помогаешь клиентам прорабатывать сильные негативные чувства. Поэтому я благодарна за то, что интернализировала опыт того, кто спокойно относился к моей ненависти. Лу был для меня хорошим примером. Хотя я не идентифицировалась с ним полностью или некритично. То, что он дал мне, касалось, скорее, чувствительности, чем набора техник. Мой стиль отличается от его стиля; мне пришлось интегрировать то, что я считала основой терапевтической чуткости, в свою собственную личность. Однако, мне очень повезло, что я работала с человеком, темперамент и образование которого принесли мне такую пользу.
Как утверждает доктор Геллер, и в моем понимании (например, McWilliams, 2004), психотерапия, по своей сути, основана на эмоциональной честности. Возможно, это тот аспект работы, который труднее всего поддерживать и которым я больше всего дорожу. Слушая и читая сообщения других практикующих аналитиков о личной терапии, я поражаюсь, насколько много тех, кто на примере своего терапевта поняли, чего делать не следует. Такие уроки также являются важным источником профессиональных знаний, хотя, учитывая время, деньги, силы и надежду, которые мы все вкладываем в терапию, требуется мужество, чтобы открыто признать разочарование. Я по-прежнему считаю, что мне повезло, что мой личный анализ, который я начала с открытым сердцем, когда еще не знала, насколько тщательно необходимо проверять потенциального терапевта, заложил такой глубокий и прочный фундамент для моей будущей работы.
Как, надеюсь, показала эта статья, во многих отношениях мой опыт как пациента отражает то, что выяснили Дж. Геллер, Дж. Норкросс и Д. Орлинский о связях между получением и предоставлением психотерапии. Но с нормативной точки зрения мой опыт остается уникальным для меня лично. Что касается средней продолжительности терапии в двадцать сеансов, то я, безусловно, являюсь исключением. Первые двадцать сессий принесли мне большую пользу, но они были только началом процесса, который продолжается в течение всей жизни, и я благодарна за каждый час после этих первых двадцати. Там, где я училась, обычно говорили: «В первый год мы просто здороваемся».
БИБЛИОГРАФИЯ
- Breuer, J., & Freud, S. (1955). Studies on Hysteria. Translated from the German and edited by James Strachey. (The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud: Vol. II). London, UK: Hogarth Press. Original published in 1895.
- Brown, N.O. (1959). Life Against Death: The Psychoanalytical Meaning of History. New York: Vintage.
- Erikson, E.H. (1950). Childhood and Society. New York: Norton.
- Freud, S. (1930). Civilization and its discontents. In J. Strachey (Ed.), The Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 21 (pp. 64 –145) London: Hogarth Press, 1971.
- Fromm, E. (1941). Escape from Freedom. New York: Rinehart & Co.
- Geller, J.D. (2005). Boundaries and internalization in the psychotherapy of psychotherapists: Clinical and research perspectives. In J.D. Geller, J.C. Norcross, & D.E. Orlinsky (eds.), The Psychotherapist’s Own Psychotherapy: Patient and Clinician Perspectives (pp. 379–404) New York, NY: Oxford University Press.
- Geller, J.D., Norcross, J.C., & Orlinsky, D.E. (eds.), (2005). The Psychotherapist’s Own
- Psychotherapy: Patient and Clinician Perspectives. New York, NY: Oxford University Press.
- Horney, K. (1950). Neurosis and Human Growth. New York: Norton.
- Marcuse, H. (1968). One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. New York: Beacon.
- May, R. (1967). Man’s Search for Himself: How We Can Find a Center of Strength Within Ourselves to Face and Conquer the Insecurities of This Troubled Age. New York: Signet.
- McWilliams, N. (2004). Psychoanalytic Psychotherapy: A Practitioner’s Guide. New York, NY: Guilford Press.
- Reik, T. (1948). Listening with the Third Ear: The Inner Experience of a Psychoanalyst. New York, NY: Farrar Straus.
- Reik, T. (1953). The Haunting Melody: Psychoanalytic Experiences in Life and Music. New York, NY: Farrar, Straus & Young.
- Reik, T. (1957a). Myth and Guilt: The Crime and Punishment of Mankind. New York, NY: Braziller.
- Reik, T. (1957b). Of Love and Lust: On the Psychoanalysis of Romantic and Sexual Emotions. New York, NY: Farrar Strauss.