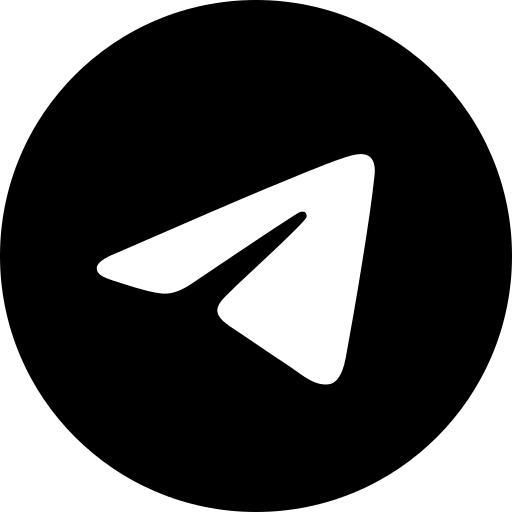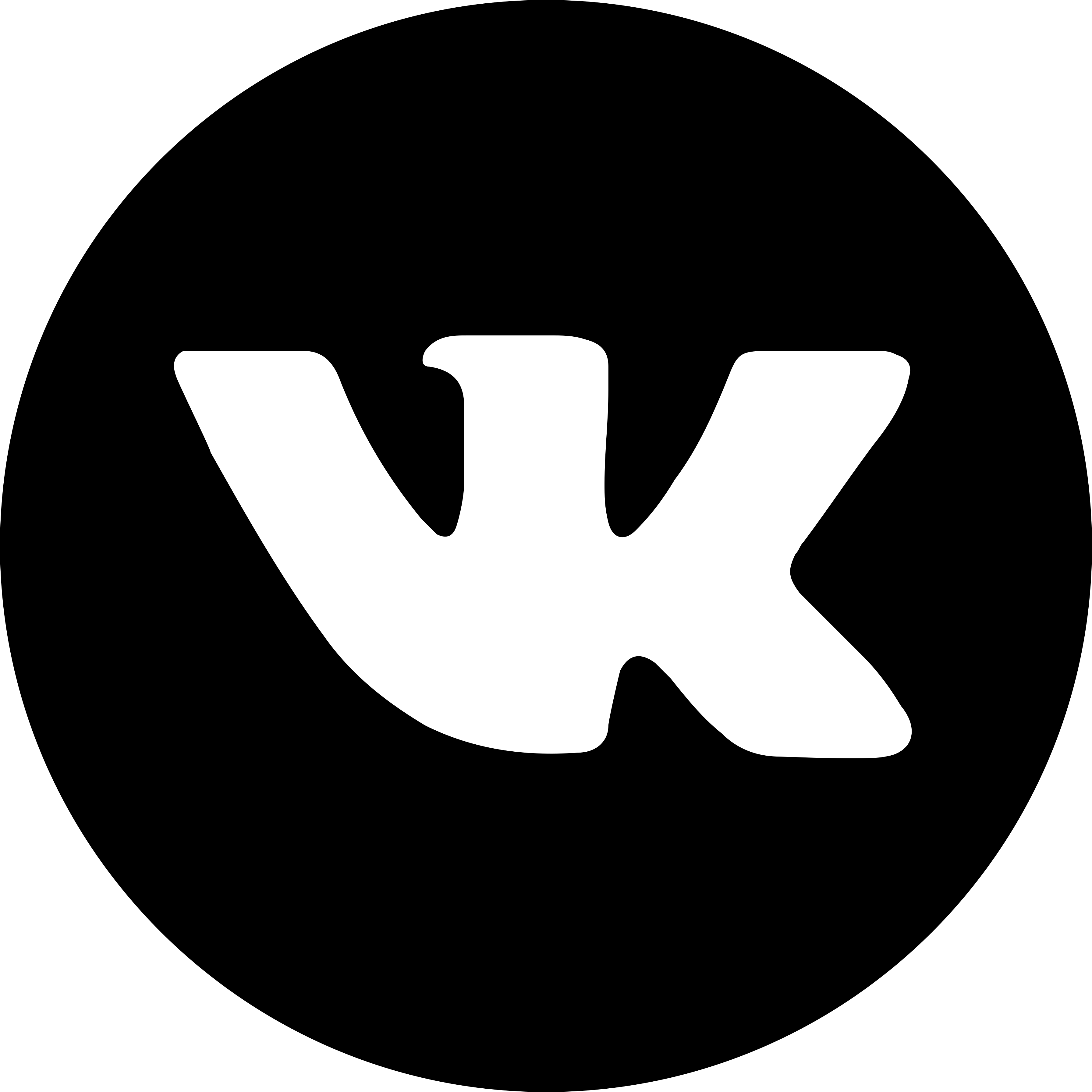- Психоаналитик, доктор медицины (MD)
- Тренинг-аналитик и супервизор Бостонского психоаналитического общества и института (Boston Psychoanalytic Society and Institute, BPSI)
- Заведующий кафедры психиатрии в Медицинской школе Гарварда (Harvard Medical School)

- Психоаналитик, доктор медицины (MD)
- Тренинг-аналитик и супервизор Бостонского психоаналитического общества и института (Boston Psychoanalytic Society and Institute, BPSI)
- Заведующий кафедры психиатрии в Медицинской школе Гарварда (Harvard Medical School)
Часть этой статьи была представлена на пленарной панели «Трансформация психоаналитического опыта и практики в эпоху Ковид-19», Американская Ассоциация Психоанализа, ежегодное собрание, онлайн формат, 19 июня 2020. Переведено и издано в разрешения автора. Все права защищены.
Перевод с англ.яз. Тармогиной Т.А.
Центр не удерживается. Почва расшатывается и мы падаем, теряемся. Древние знали об изменении порядка вещей: слово «катастрофа» происходит от греческих слов «вниз» и «переворачивать». Мы теряем мир, который казался нам само собой разумеющимся, и знакомое становится чуждым. Слово «знакомый» происходит от слова «семья»[1].
На заре западной литературы Гомер воспевал Одиссея, тоскующего по своей семье, дому, Пенелопе. Все двадцать лет, которые храбрый воин провел на чужих берегах, он оплакивал свой дом. Библия тоже начинается с потери Эдема, совершенного сада невинности, существовавшего за пределами познания. Дом, не как нечто, находящееся в пространстве, но как состояние бытия; тоска, застрявшая в самых ранних фантазиях: о любви, осязании, телесности. И конечно, именно потому, что эта тоска вызревает в фантазиях, на самом деле такого дома никогда и не существовало, он всегда был лишь фантазийным воспоминанием о доме. Возможно, эта фантазия является первобытной иллюзией, рожденной в самый ранний, предсознательный момент, перед тем, как быть вытолкнутыми в мир, который мы не выбирали. Дом, как метафора тоски о чем-то недостижимом и невысказанном. Как выразился Боб Дилан (1985), герой документального фильма Скорсезе «Нет пути назад», вышедшего на PBS: «Я родился очень далеко от того места, где мне суждено было оказаться, и сейчас я на пути к моему дому». Дом, как тоска по правильному, идеальному миру. И сегодня это наша общая, коллективная тоска, которую, однако, каждый из нас переживает по-своему.
МИР РАЗРУШЕН: ПЕРЕВОРОТ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА
Сегодняшний день можно назвать историческим моментом — что-то совершенно фундаментальное переживается как потерянное. Сегодня мы чувствуем, как будто бы наш дом в этом мире разрушен, он ощущается сюрреалистичным, ненастоящим. И мы сбиты с толку, испуганы, раздражены, сокрушены, очень измучены и опечалены. Как будто бы мы выпали из нашего привычного мира или этот привычный мир выпал из нас.
Словно во сне, мир, который всегда был одинаковым и знакомым, теперь кажется разрушенным и чужим, и я, кажется, не могу найти путь к своему дому. Тот вчерашний мир теперь такой далекий, нереальный, сверхъестественный. Понимание сверхъестественного всегда интересовало меня и вот почему: «сверхъестественное» глазами Фрейда — это «жуткое, ужасное» (нем. «unheimlich», работа З. Фрейда «Unheimlich» в русском переводе «Жуткое», 1919). На немецком слово Umheimligkeit буквально означает «не дома, не домашний». Для Фрейда зловещими предвестниками возвращения вытесненного являются чувства дежавю: как будто я уже был здесь когда-то однажды. Фрейд цитирует Шеллинга: сверхъестественное, жуткое — это то, что «должно оставаться скрытым и тайным, но выходит на свет» (р.224). Меня особенно интересует этот феномен, потому что Хайдеггер (1927) и другие экзистенциональные феноменологи также использовали этот термин для исследования понятия «пребывание в мире» (в английском языке написание этого выражения буквально изрезано многочисленными дефисами «being-in-the-world» словно для того, чтобы подчеркнуть, что пребывать в мире — это быть, словно вплетенным в него и неразрывно связанным с ним).
Это жуткое, тревожное чувство «пребывания в мире, но не дома» раскрывает нам, как будто со стороны, понимание нашего обычного, привычного способа жить. Показываясь на мгновение, мы видим отблеск нормальной жизни: как будто бы мир, играя в кости, случайно выкинул кубики не того бытия. Удивительно, как мы все это время принимали мир как должное, он казался нам абсолютно незыблемым; когда речь шла о повседневной жизни, мы были полностью уверены в завтрашнем дне. И лишь чувство жуткого и сверхъестественного иногда указывало на хрупкость и мимолетность жизни. А сейчас сошлись вместе два регистра повышенной осознанности — пребывание в мире и возвращение вытесненного — сошлись вместе, как им и положено.
Смешалось экзистенциональное с интрапсихическим, бессознательное встретилось с «пребывающем в мире» и проявило себя на множественных уровнях в виде хрупкости и тоски. Сегодня, в этот исторический период, мы чувствуем себя странниками, затерявшимися на чужой земле.
Это жуткое, тревожное чувство «пребывания в мире, но не дома» раскрывает нам, как будто со стороны, понимание нашего обычного, привычного способа жить.
ТРАВМА КАТАСТРОФЫ
Катастрофа отрицает ассимиляцию в наших чувствах, так как она навсегда подрывает устои привычного. И позвольте мне определить травму сегодняшней катастрофы как травму, разрушающую мир: нечто, в чем мы сейчас совершенно не способны ассимилироваться, а может быть, и не сможем никогда (см. Margulies 2018a). То, что невозможно принять, усвоить является для нас невыносимым, разрушающим, ведущим к фрагментации привычного уклада; непереносимая чрезмерность, вызывающая чувство экзистенционального смещения, потери основ, ощущение выпадения из мира, который казался таким устойчивым. Мощность этой травмы такова, что она заставляет ее принимать, даже если мы всячески сопротивляемся принятию. Травма в ее безжалостной, нежеланной, разрушающей новизне захватывает нас и запирает привычный, знакомый мир, требуя немедленных изменений. Сверх того, помимо переживаний, вызываемых необходимостью принятия новой реальности, от нас также требуется приспособиться к ней. Эффект от травмы, между тем, опережает ее понимание, тем более, когда речь идет о новом виде понимания. Новое понимание глазами этой травмы означает конкретно то, что мир, знакомый и незыблемый, более таковым не является. Теперь нам приходится ходить по зыбучим пескам: травма рассыпает основу, на которой мы ранее стояли.
И, словно вторя множественным дефисам в выражении «пребывание в мире» («being-in-the-world»), новая реальность так же распадается на фрагменты. В ней спутываются времена: прошлое–настоящее–будущее как слова «родитель» и «ребенок», соединяясь ключевым смыслом, определяют и вмещают друг друга. Травма по-настоящему раскрывается après coup — постфактум[2], задним числом. Французское выражение après coup буквально означает «после удара», и именно поэтому серьезная травма всегда имеет посттравматический эффект: травма раскрывается позже, она мутирует, меняется. Травма атакует привычное понимание повседневности, воздействует как на прошлое, так и на будущее, работая в двух направлениях одновременно и подрывая их оба. Ставки в такие моменты не могут быть выше: институции, законодательство и даже монументы оказываются низвергнутыми. Мы видим попытку переписать историю прошлого и попытку взять под контроль наше будущее: прошлое-настоящее-будущее перепутываются.
Сегодня мы вклиниваемся в историю, сраженные пандемией. Но эпидемия — лишь часть мирового процесса крушения. Она обнажила несовершенства, которые уже были в мире и лишь ждали подходящего момента для проявления. Попробуем расширить фрейдистское понятие «жуткого, сверхъестественного» до отрицаемого, непризнаваемого бессознательного целой нации, до возвращения вытесненного в таком масштабе. Мы имеем повсюду мобильные телефоны и нас теперь зовут стать свидетелями убийств, и дальше больше. Возвращаясь к Шеллингу (Schelling): сверхъестественное, жуткое — это то, что «должно оставаться скрытым и тайным, но выходит на свет». Наши тайны сейчас все выставлены напоказ, и мир раскалывается на части у самых своих основ, приводя в движение тектонические плиты, а мы едва понимаем происходящие сдвиги. Наши города буквально находятся под обстрелом. Многие из нас уже жили в мире, который ощущался сломленным, в мире, в котором они чувствовали себя на краю. Но сейчас мы все в огне, и пандемия подожгла этот фитиль.
Нас трясет сверху донизу, словно под натиском колена, стоящего на шее афроамериканца, кричащего, задыхающегося. Мы сотрясаемся от взгляда детей, оторванных от родителей на наших границах, на наших глазах. Мы содрогаемся от безжалостного разрушения окружающей среды; от экспоненциального роста социального неравенства и постоянного нарушения общественного договора; от нарастающей ядерной угрозы; от терроризма; от сокрушительности новейшего оружия недоступной раннее мощи.
Нас трясет от побитой, сломленной демократии; от безумия и подлости наших лидеров; от краха объективности публичного дискурса и злонамеренного конструирования того, что принято называть «правдой». Из-за такого, ставшего ироничным, понятия «внутренней безопасности» подорвано само понятие «дома»: от его политических измерений до национального самоопределения, индивидуального чувства безопасности, до понимания, кто мы, что есть Америка и что есть мир вообще для каждого из нас.
Границы привычного мира быстро отступают, превращаясь в далекое прошлое и ностальгию. Где-то на горизонте нас ожидает новое понимание границ нормальности. Похоже, время будет раскрывать себя волнами, с мутными намеками на безопасность — коллективный иммунитет, постоянная сдача тестов, лечение, вакцинации — нововведения, призванные вырвать нас из ковидного заточения. Мы ждем…
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ: ПРАКТИКОВАТЬ ПСИХОАНАЛИЗ В МИРЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ?
Мы ждем, когда все это закончится, ждем этого «после». Après-coup: дар психоанализа состоит в возможности осознавать себя, время, смыслы. Ровно так наше бессознательное обнаруживает себя после, задним числом: по прошествии времени мы понимаем, как мы мыслили, как обрабатывали бессознательные процессы. С этим новым осознанием значимости прошлого, après-coup представляет собой печальную попытку исцелить прошлое посредством его нового понимания.
Мы — странники в чужой стране, падающие в жуткое, зловещее будущее. Мы не осознаем значимость событий, происходящих сейчас. Земля содрогается — и для каждого своим отдельным способом — и мы задаемся вопросом: когда и на какой земле мы в итоге окажемся? Что этот исторический момент будет для нас значить через год? Через 10 лет? Через сотню лет? Как дети наших детей будут его понимать? Мы в смятении по поводу нашего будущего. Ждем, чтобы понять, кем мы были и, главное, кем мы могли бы быть? Бессознательное, на самом деле, бессознательное целого мира — это то, что ожидает нас, потому, что в текущем моменте прошлое-настоящее-будущее: все спутано. Après-coup — не более чем перезапись значимости прошлого. Это, как тосковать, выражаясь словами Г. Левальда, по «чему-то большему» в каждом из нас, по нереализованному потенциалу. Это про исцеление будущего: в томлении по дороге домой в правильный, привычный мир.
Мы — странники в чужой стране, падающие в жуткое, зловещее будущее. Мы не осознаем значимость событий, происходящих сейчас. Земля содрогается — и для каждого своим отдельным способом — и мы задаемся вопросом: когда и на какой земле мы в итоге окажемся?
В ОЖИДАНИИ «ПОСЛЕ»
Вместо того, чтобы продолжать развивать тему, изложенную выше, я решаю оставить ее так, более не трогая, целостной в своих неспособных к повторению мыслей, в разгар хаоса, незаконченности, неопределённости[3].
Быть свидетелем: зов и ответ. Во время пандемии линии разлома нашего общества раскрылись очень широко, и нас призвали быть свидетелями того, что на самом деле никогда особо и не было спрятано, однако оставалось под прикрытием и не признавалось, будучи у всех на виду. Убийцы души: мы все сейчас — свидетели, призванные выступить и объявить себя ответственными. В работе «Наблюдательность и инаковость аналитика» (Warren Poland, 2020) Варен Поланд говорит о присоединении к другому через переживание боли другого, существующей вне слов. Поланд обращается к Эммануэлю Левинасу (Emmanuel Levinas, 1987), пережившему холокост, потерявшму семью и с ужасающей ясностью постигшему смысл зова, остающегося без ответа: в сердце человеческого бытия должна существовать некая основополагающая этика откликаться на зов другого. Этика, однако — не как приложение к науке о бытие, а как нечто, похожее на время, вплетенное в метафизическое полотно человеческого существования. И то, что мы осознаем в течение этой пандемии, отражает априори как раз это: мы слышим зов — первобытный, резонансный — живущий в каждом из нас и призывающий к ответу. Наши первые виртуальные собрания будут долго оставаться в памяти за их невероятные, тревожные, нравственно-мечущиеся заявления об истории системного расизма, обнародованного д-ром Беверли Стаут (Beverly Stoute, 2020). Мы не можем вернуться к тому состоянию вещей, которым оно было раньше. Мы обязаны меняться, если мы намерены сохранить наши ценности, стремление к осознанности и верность принципам гуманизма. И вместе с тем, мы должны слушать.
И еще кое-что: быть человеком — значит заботиться о будущем. И такая забота о будущем укрепляется в понимании, часто на периферии сознания того, что быть человеком — это еще и осознавать, что человек смертен. «Бытие-к-смерти» описывает удержание этой области будущего на заднем плане огромной арки человеческого бытия[4]. К счастью, в обычной жизни мы поглощены ее повседневностью, плывем в общем потоке и принимаем за должное наше пребывание в мире. Синтезируя инсайты Хайдеггера с Фрейдом и расширяя их до классической рамки нашего времени, Ганс Левальд (американский психиатр немецкого происхождения, 1906–1993, работы 1960, 1972) относит нас к этому вектору заботы: «бытию-к-будущему» как к «нечто большему». Но, понимая, что может принести это новое будущее, мы движемся пока не туда, куда бы следовало стремиться. С легкой элегантностью Левальд сводит параметры текущего времени к психоаналитическим отношениям, делая явным то, что перенос как таковой выкристаллизовывает спутанность времени во всех его направлениях — прошлое–настоящее–будущее — и привносит ту самую связь между аналитиком и пациентом, бессознательными процессами, проявляющимися здесь и сейчас, а также высвечивая все движения туда и обратно во всех их проявлениях.
Далее, работая в перспективе перемешанного прошлого–настоящего–будущего, именно аналитику поручается выдерживать этот неопознанный потенциал. Косвенным образом, философские обобщения Левальда выдвигают на передний план «нечто большее», чем пациент стремится стать[5]. Аналитик мягко удерживает эту возможность возможностей как неотъемлемую часть аналитического процесса, замещая собой потенциал роста — даже и особенно тогда, когда пациент к этому еще не способен. Предложенный Левальдом синтез укрепляет действие терапевтических отношений, способствует развитию инсайтов, осознанности и пониманию перспектив. Теперь, полагаясь на теорию Левальда, который в свою очередь объединил Хайдеггера и Фрейда, мы можем говорить о гораздо более широкой группе процессов, способствующих видению перспектив, так как они раскрываются в континууме в нашу коллективную культуральную осознанность — прямо перед нами и с огромной жаждой в общественном дискурсе этого исторического момента. Ставки повышаются на глазах, так как наша судьба определяется прямо здесь и сейчас.
Общественные и политические речи, раздающиеся в период пандемии, только усиливают глубокую и непреходящую тревогу, скрывающуюся в социальных разломах, специально адаптированных для того, чтобы персонализировать и придавать форму их метафорам. Риторика стен и границ сужает понятие дома до чего-то осязаемого и плотного: поскольку в их «красивых стенах», усиленных действиями министерства внутренней безопасности, четко обозначается позиция «мы», упрощенная до тех, кто остается в контуре ограничений, а кто-то — за их пределами. На фоне вездесущей, но невидимой инфекции пандемия ускоряет необходимость определения дома, оправдывая, как это всегда происходило в истории, всколыхнувшуюся ксенофобию, убийства, массовый карантин, гетто, выселения и вынужденную эмиграцию в поисках нового дома[6].
Сегодняшние предписания изобилуют требованиями того, что мы должны и не должны делать во время передвижений на короткие или длинные расстояния. Многие покинули города, провоцируя тем самым усиление государственного контроля за границами, сопровождающегося приказами держаться подальше от границ и бесконечными проверками документов по всему периметру страны: путешественники, знайте, мы вас не хотим. Страх вторжения постоянно подогревается; загородные дома становятся полем воинствующих дискуссий; продажи оружия растут. В нашей новой реальности мы вынуждены становиться очень острожными и рассчитывать любой риск, реализовывая этот новый концепт жизни — определяя, кому дозволено оставаться в контуре присутствия и одновременно осуждая любого, посмевшего его нарушить — кто в итоге внутри, а кто вовне. У нас появляется новый язык как «безопасная капсула» — производная от дома в его новом понимании, приводимая в действие через физическую, телесную сохранность — своего рода перифраз «не существует ребенка без матери» Винникотта, матери, как первой капсулы безопасности. Это распространяется также и на наши «преобразившиеся» сессии с пациентами: они стали виртуальными, лишившись своей естественной среды. Мы не можем более проводить очные встречи, но в безопасности ли мы?
Время и пространство приобрели пороговые значения: наша обычная жизнь прервана, мы поставлены на паузу между прошлым и будущим. Обратите внимание на значение термина «пороговый, лиминальный» (анг. liminal) — промежуточный между двумя состояниями, еле различимый, относящийся к порогу восприятия, например: «Во время операции жизнь человека висит на волоске между жизнью и смертью». Как и ковидные больные, которые лежат в больницах, находясь в подвешенном состоянии между жизнью и смертью, мы все сейчас точно так же подвешены. Уже сама смерть приобретает новое понимание — «д.н.э.» — до Ковида[7] — слова, пойманные в прошлом, в другой стране, в другом мире, они понятия не имели, что будут означать в будущем. В памяти они существуют в совершенно другом времени и пространстве, и мы удивляемся, как бы отреагировал на них любимый учитель, друг, родственник. Границы привычного мира быстро отступают, превращаясь в далекое прошлое и ностальгию. И как это и должно было случиться, теперь мы знаем слишком много о том, что однажды было скрыто. Где-то на горизонте нас ожидает новое понимание границ нормальности. Похоже, время будет раскрывать себя волнами, с мутными намеками на безопасность — коллективный иммунитет, постоянная сдача тестов, лечение, вакцинации — нововведения, призванные вырвать нас из ковидного заточения. Мы ждем…
Пандемия не только определит это время — будут написаны книги — но и задаст новую форму ощущениям этого периода, тому, как мы его переживаем. Эти странные ощущения кажутся эластичными и ригидными одновременно, одномоментно расширяющимися и распространяющимися (заразными), дни и недели, словно в тумане, стянутые клаустрофобией домашних пространств, иногда слегка ослабевающие хватку, благодаря кажущемуся почти волшебному, спасительному цифровому эфиру — «зуму» (Zoom). Мы чувствуем себя загнанными в угол, запертыми в ловушке между весомостью прошлого и неопределенностью будущего, и мы ждем, ждем… Когда мы наконец сможем сойти с этого кренящегося поезда пандемии, где мы окажемся? Как будет выглядеть наша земля? Кем мы в ней станем?
Во что превратится чувство дома с психоаналитической перспективы? Новые «расширенные рамки» выдвинутся вперед, на этот раз образованные, в первую очередь, врачами и их клиническим сеттингом, оспаривающим разнообразие, разницу как таковую. Кем в этом случае станем мы, психоаналитики?
БУДУЩЕЕ ПСИХОАНАЛИЗА: УВЯДАНИЕ?[8]
ДОМ В ПОНИМАНИИ ПСИХОАНАЛИЗА
Во время пандемии мы наблюдаем явное смещение ракурса в сторону медикалисткого подхода, усиливающегося на фоне вопиюще низкого присутствия психоаналитического мнения; проводится огромное количество экспериментов в области телемедицины, вторгающейся в личное пространство пациентов; мы открываем наши новые цифровые глаза там, где оказались заточенными наши пациенты — в их домах. Эти новые глаза требуют новой психоаналитической феноменологии, новых стилей повествования. Это вызов языку гиперреалистичности, сюрреализма, где при этом становится почти невозможным описать настоящую ускользающую реальность. Эти прорастающие аналитические пространства требуют скорейшей разработки новых правил работы: жизнь меняется, как ей и положено, и наши правила должны меняться вместе с ней. Новые формы организации аналитического пространства уже здесь — и они, безусловно, провоцируют появление новых клинических теорий.
Но изменения в психоаналитическом сеттинге начались задолго до пандемии. Большей частью из-за студентов, которые уже давно требуют от психоанализа принятия их современного стиля жизни и соответствующей адаптации под них. Пандемия лишь ускорила реализацию этих изменений. Постоянно увеличивающееся количество желающих стучат в наши двери, ожидая от психоанализа соответствия с их представлениями о нем как о «чем-то большем», чем традиционный психоаналитический подход исследования бессознательных импульсов, проявляющихся внутри и вокруг нас. Они стремятся к психоаналитическому способу понимания жизни и ее проживания, и они хотят, чтобы мы их этому научили.
Находясь под безжалостным давлением финансистов, требующих от терапии все большей эффективности и клинической обоснованности и следующим за этим отходом от персонализированного, индивидуального подхода к работе с пациентом, их стремление становится все более и более актуальным. Усиливающаяся индустриализация медицины уравнивает человека со стоимостью приемного часа. И появляется антиутопичный силлогизм: если бытие есть время (согласно М. Хайдеггера), а время есть деньги (согласно концепции индустриализации), тогда «жить» в терминах текущей реальности значит «монетизироваться». Сокращение времени работы с пациентом вытесняет глубину этой работы, выражающейся в невозможности вовлечения во внутренний мир человека и его смыслообразование. И это, в свою очередь, ведет к повсеместному профессиональному истощению и, в результате, недобросовестному, халатному отношению к работе. В последних исследованиях, сделанных еще до пандемии (Summers 2020), 80% психиатров из более 2 000 опрошенных признались в профессиональном выгорании. Чувствующие себя чужими и ненужными студенты медицинских институтов, тем не менее, хотят большего и самостоятельно ищут глубину и связность, исконно присущие профессии, в психоаналитических институтах. Они приходят в поисках основного объединяющего фермента профессии; в поисках дома, исчезающего в современном, трещащем по швам сообществе со всеми их научными школами.
С психоаналитической перспективы наша концепция изначально призвана отзываться на любые социальные трансформации, продираться сквозь любые изменения, выдерживать самые нелепые перенастройки, но при этом сохранять частицы фундаментального истинного знания. Процесс психоанализа в своей основе способен работать с любыми проявлениями новой культуральной реальности и привносить в нее ясность, тонкость и глубину. Да, мы уже видим волны изменений; но будут и другие, и с ними придет «что-то большее».
БИБЛИОГРАФИЯ
- Freud, S. (1919). The «uncanny» Standard Edition 17:219–256.
- Heidegger, M. (1927). Being and Time, transl. J. Macquarrie & E. Robinson. New York: Harper & Row, 1962.
- Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (1967). The Language of Psycho-Analysis, transl. D. Nicholson-Smith. New York: Norton, 1973.
- Alfred Margulies. One could see this coming a decade or two back (see Margulies 2000), 1136
- Lévinas, E. (1987). Collected Philosophical Papers, transl. A. Lingis. Dordrecht: Nijhoff.
- Loewald, H.W. (1960). On the therapeutic action of psychoanalysis. In Papers on Psychoanalysis. New Haven: Yale University Press, 1980, pp. 221–256.
- Loewald, H.W. (1972). The experience of time. In The Essential Loewald: Collected Papers and Monographs. Hagerstown, MD: University Publishing Group, 2000, pp.138–147.
- Margulies, A. (1989). The Empathic Imagination. New York: Norton.
- Margulies, A. (2000). Our psychoanalytic legacy: The relevance of psychoanalysis to psychotherapy. In The Real World Guide to Psychotherapy Practice, ed. A.N. Sabo & L. Havens. Cambridge: Harvard University Press, 2000, pp. 292–316.
- Margulies, A. (2014). After the storm: Living and dying in psychoanalysis. Journal of the American Psychoanalytic Association 62:863–905.
- Margulies, A. (2018a). Falling out of the world: shock, strangeness—and after. Spring Academic Lecture, Boston Psychoanalytic Society and Institute, April 5.
- Margulies, A. (2018b). Illusionment and disillusionment: Foundational illusions and the loss of a world. Journal of the American Psychoanalytic Association 66:289–303.
- Mukherjee, S. (2020). What the coronavirus crisis reveals about American medicine. The New Yorker, May 4, 2020.
- Poland, W.S. (2000). The analyst’s witnessing and otherness. Journal of the American Psychoanalytic Association 48:17–35.
- Rosen, J. (2000). The Talmud and the Internet: A Journey between Worlds. New York, Farrar Straus & Giroux.
- Stoute, B. (2020). Plenary panel: Psychoanalysis in a Broken World: Part 2. The Psychoanalyst’s Anxieties: When the Bough Breaks. American Psychoanalytic Association Virtual Annual Meeting, June 20.
- Summers, R.F., Gorrindo, T., Hwang, S., Aggarwal, R., & Guille, C. (2020). Well-being, burnout, and depression among North American psychiatrists: The state of our profession. American Journal of Psychiatry 177(10):955–964.
[1] Familiar (англ.) – знакомый, family (англ.) – семья
[2] Французское «après coup» на немецком языке — один из переводов слова «nachtraeglich», означающего «запоздалый, прошедший», см. Laplanche and Pontalis 1967
[3] Большая часть этого материала взята из более емкой основной работы (см. Margulies 1989, 2014, 2018b) и особенно из неопубликованной работы «Выпадая из этого мира: шок, чуждость — что после» (2018а), которую я планирую к включению в качестве отдельной главы в одноименную книгу, перерабатываемую сейчас в свете происходящих изменений.
[4] «Бытие-к-смерти» - термин, введенный немецкий философом М. Хайдеггером, 1927
[5] Конечно, существует много способов, при которых удержание воображаемого потенциала может пойти не так. Это происходит, потому что трансферентные-контртрансферные представления насыщаются бессознательными фантазиями в рамках некого нормативного потенциала: чье это будущее, которое мы удерживаем?
[6] Постоянно преследуемые, евреи стали народом Священного Писания — в отличие от страны, слово обладает мобильностью и возможностью к распространению — и Шабат, будучи Храмом, обращенным во время, представляет новый прочный дом, выстроенный в новых измерениях времени и пространства.
[7] Игра слов: в ан.яз. «д.н.э.» обозначается «b.c.» - «before Christ», автор предлагает новое прочтение — «before Covid». Прим.переводчика
[8] Игра слов: автор пишет W(h)ither?, где wither (ан.яз) – увядать, засохнуть; whither (ан.яз) – куда. Прим. переводчика